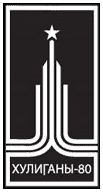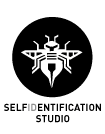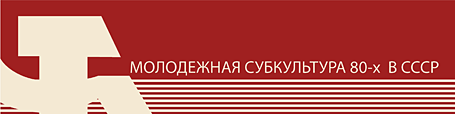
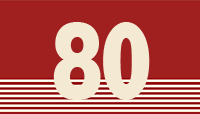
Группы
|
НЕФОРМАЛЫ И МЕЛОМАНЫ Неформальные коммуникации, отображавшие ортодоксальный смысл этого термина, представляли из себя надрайонную внеклассовую среду, объединенную накоплением меломанской, модной и иной околокультурной информации. Сам термин появился в перестроечный период, когда молодежные уличные субкультуры превратились в самоорганизованные стилистические группы, обросли фарцовочными и концертными коммуникациями и стали доминировать на публичных местах городского центра. И, соответственно, попали в зону внимания властей, пытавшихся поставить под контроль и учет это явление, но натолкнувшихся на полное отрицание каких-либо видов сотрудничества между улицей и властями. Речь идет не о студенческих массах, пытавшихся реализовать свои околомузыкальные и артистические таланты, а об уличных коммуникациях, замкнутых в систему собственных взаимоотношений. В которые то же студенчество помимо самодеятельных рок-групп поставляло немалую часть нью-вейверов и брейкеров, объединенных общим субкультурным термином «волновики», а также стиляг, битников и хиппи 80-х. Которые предпочли самовыражение, мутные к тому времени перспективы карьерного роста и праздность мажорской среды. К этому феномену социального «опускания», сопровождавшему первую половину 80-х, в этот же период добавился не менее мощный феномен «поднятия» районных низов, из которых самоотторгались хипстеры, рокеры и панки, не желая смешиваться с урелами и гопотой. Это в итоге привело к крушению социальных рамок и сближению через улицы, а позднее концерты, филофонию и фарцовку абсолютно разнородной массы, где мерилом успешности стали личные качества и жажда самовыражения. Таким образом, неформальными связями через достаточно малое количество участников этих образований к середине 80-х были опутаны все городские слои. И именно многотысячная среда урелов работала «длинным ухом» субкультур. Новости, несмотря на отсутствие мобильной связи и Интернета и табуирование со стороны прессы, умудрялись облетать за день весь город, передаваемые от двора к двору или от класса к классу, обрастая при этом комком фантастических слухов. Но в целом основа неформальных коммуникаций поддерживала замкнутый асоциальный подпольный вид коммуникации, уверенно прошагав весь почти столетний путь развития западных субкультур практически за десятилетие. Оставаясь наиболее заметными и значимыми группами, привлекательными для всех слоев общества еще до того, как власти в очередной раз решили поэксплуатировать неформальный бренд, поместив его в фарватер перестройки. ХИППИ , БИТНИКИ И СИСТЕМА 70-Х Для начала имеет смысл отметить существовавшую «доперестроечную» коммуникацию хиппи, насчитывающую не меньше 2000 человек на весь Союз. Наиболее скучкованные на Западной Украине, Дальнем Востоке и в Прибалтике. Питер, будучи транзитной точкой между «сельским» югом и «заграничной» Прибалтикой, стал транзитной точкой для хиппи и прибежищем многих битников, да и сейчас остается таким же. При этом далеко не все отрастившие волосы ниже «воротникового» стандарта или отпустившие бороды (за что подвергались гонениям в институтах) принадлежали к какой-либо коммуникации. Скорее даже наоборот, являлись индивидуалами-одиночками, как и прочие иные, сбивавшиеся в дворовые компании. Система же подразумевала коммуникацию. И в основе ее лежали перемещения по территории Советского Союза, отягощенные существовавшими правилами прописки и обязательного 5-дневного труда. Не работающим и не учащимся предлагалось на выбор либо лишиться паспортов и переместиться за 101-й километр, либо пополнить собственным присутствием отбывающих различные сроки в ЛТП (как бы на перевоспитание) с дальнейшим трудоустройством на поруках коллектива трудящихся. Сам же системный люд 70-х, перемещавшийся в первую очередь по маршруту советского общества, обрастал связями, знакомствами на базе эзотерических и меломанских увлечений и создавал коммуны, лесные и пляжные лагеря, квартиры/флета и сквоты на захваченных и пустующих пространствах. В подобных ячейках кучковались по 5-10 человек, занимавшихся околотворческим бездельем, но основную массу времени проводивших на улицах, занимаясь мелким мошенничеством (стритовым аском), утюжкой и наркодилерством. Но, конечно же, не в том виде и масштабах, как это происходит сейчас. Социальная стабильность и иллюзия, что деньги по большому счету не нужны (парадоксально, но факт: имея на руках «угол» или «четвертной», можно было достаточно безбедно существовать вскладчину, не сильно себе отказывая в рамках достаточно скудных продуктовых реалий начала 80-х), цементировали антиснобистские взаимоотношения, и система достаточно динамично развивалась, пока не обросла наркотически зависимым составом, унылыми студентами, кичащимися своей принадлежностью к чему-то особенному, и отчаянно бредящими девицами, распространяющими как философскую, так и диссидентскую литературу, таким образом внося свой вклад в общечеловеческую дисгармонию. Но еще на олимпийский период задорных возмутителей спокойствия и самодостаточных хипстеров было на порядок больше, чем унылых хиппи-«пионеров», и на дальнобойных трассах Советского Союза частенько наблюдались голосующие одиночки и группы нечетных автостопщиков. В целом же системного люда, курсировавшего по стране, можно было насчитать не более 30 человек на крупный город. Но, включая перемещенцев и открытие прибалтийских лесных коммун под Ригой и Подмосковье, получалась достаточно крупная цифра от 100 (какой-нибудь лагерь в Раздорах) до 500 (средняя цифра для фестиваля в Казюкасе 84 года). К этому стоит прибавить летние черноморские лагеря, где кучковалось тоже достаточно заметное количество системного люда, перемешавшегося к началу 80-х с отдыхающей студентней. Коктебель, Гурзуф, Новый Свет и Одесса – любимые места летнего времяпровождения. Украинские коммуны художественного толка тоже проходили фазу становления и к концу 80-х насчитывали до сотни участников и порядка 30 музыкальных околостуденческих ВИА, состоявших из волосатого люда и битников-разночинцев. Дальневосточные коммуны тоже присутствовали в реалиях, но после прессинга конца 70-х сошли на нет. Единственно оставшейся на плаву можно считать бурятскую буддистскую общину, в массе своей состоявшую из ленинградских студентов. При этом стоит отметить, что хиппи, еще в дофестивальный период поднявшие на флаг эскапизм и самоустранение, в отличие от своих наглых и радикальных волосатых предшественников, встали на уверенный путь деградации или подключения к иным стилевым группам, пережив свой системный «золотой век» еще в конце 70-х. Будучи не режимным городом, неформальные коммуникации в Ленинграде складывались быстрее, но и про текучку транзитных кадров не стоит забывать. Основой для фланирования, естественно, был Невский, «от коней» до «Площади Восстания», с крупными тусовками в 20-40 человек неформального толка напротив кинотеатра «Аврора» и на «Гостинке». Из заведений можно выделить «Сайгон», «Гастрит» и «Треугольник». И если в Москве с ее проблемным общепитом неформалами были облюбованы пельменные и пивные, то в Ленинграде на эту роль претендовали в большей степени кофейни и пирожковые. СИСТЕМА НОВОЙ ФОРМАЦИИ ВОЛНОВИКИ В наименьшем количестве в стране были представлены «волновики», в большей степени походившие на «лондонских» психоделиков своими вычурными костюмами и эпизодическим появлением в кафе «Метелица» и «Лира», после закрытия которой, аккурат на следующий день после смерти Владимира Ильича, тусующиеся «нью-вейверы» переместились на Пушку и Плешку (площадь Ногина). Нью-вейверские проявления охватывали и Прибалтику, и Урал, где в недрах Снежинска вызревал проект «Братья по разуму», но общее количество как-то стилистически выраженных «волновиков» было более чем невелико. И визуально это выражалось в каком-то смешанном дресс-коде из элементов стиляжничания, «американистского» дресс-кода утюгов и гамщиков и уже выделившегося из общего «итальянского» стиля «рабочей одежды» фарцовщиков. Разброд в меломанских предпочтениях был не меньшим, и этому имелись свои причины. После очередного витка «холодной войны» и возобновления глушения западных радиостанций информация просачивалась через фарцовщиков, которые не сильно разбирались в том, что втюхивают, и обобщенных представлениях о клубно-танцевальных культурах по ту сторону «занавеса». Да и по ту сторону вместе с очередным ревайвелом субкультур на эстрадном эфире запестрели мутационные формы смешения фанка, диско, неорокабилли и электроники. Все это докатилось огромным пестрым клубком под названием «новая волна». И только очень узкие группы меломанов могли разобраться в этой филофонической каше, активно вытеснявшей из эфира мейнстрим 70-х, прогрессивный рок и бит, на базе которого воспитывалось поколение 70-х, в том числе и отечественных деятелей. Большим разделительным маркером служило самовыражение в «волновой среде», носившее характер разделения на музыкально-меломанскую и танцевально-брейкерскую среду, представители которой стали собираться в Олимпийской деревне и «Молоке», а отдельные танцевальные коллективы из студенческой среды образовывали школы. Количество уличных брейкеров тоже не превышало 20-30 человек, несмотря на вышедшие фильмы «Танцы на Крыше» и более поздний «Курьер». И только после 86 года движение получило смену составов и увеличилось за счет молодежи. После этого притока брейк достаточно активно засветился в рамках проводимых в Москве дискотек, концертов и телевидения, а чуть позже брейкера переместились в ЦПКО и на Арбат, где сложилась новая коммуникация гамщиков и утюгов. Из которой ведут происхождение первые отечественные хип-хоперские потуги и фоттерская кажуальная волна 90-х. Остальной массив «нью-вейва» окончательно дифференцировался в фестивальный период на более четкие стилистические ответвления, а группы лиц, не укладывающиеся в какие-либо жесткие тусовочные рамки, сформировали то, что сейчас принято называть «панком советского периода». Опять же двух видов – более «нью-вейверский» и более «хардкоровый», в рамках личных способностей и компаний, к которым эти персоналии примыкали. В Ленинграде нью-вейверская стилистика в большей степени выражалась в каком-то полупанковском стиле или извращениях на базе стиляжничания или милитаризма. РОКЕРЫ И МЕТАЛЛИСТЫ Как и все остальные генеалогические истории – эти группы имели свою дофестивальную предысторию, корнями уходившую в филофонию и околофутбольные хулиганства. С появления в 1982 году термина «хеви-метал» взамен «тяжелого рока» отдельные представители, хаотично подмагничиваясь друг к дружке на базе нового увлечения и куража, сформировали достаточно плотную внесоциальную прослойку, которая уже к 1983 году превратилась в металлорокерский костяк ЦПКО, сознательно инфильтрировавший собственные ряды и состоявший наполовину из бывших фоттеров, движение которых дало трещину (на«левых» и «правых» фанов) к этому времени, и хипстеров-фарцовщиков, предпочитавших новые простоватые утяжеленные ритмы и все, что связано с темой «настоящести и правильности». Сложению радикального крыла способствовали разваливающаяся институция ПТУ и желание противопоставить себя как прошлому поколению тусовщиков, так и уже имевшимся группам сверстников. Поэтому ничего удивительного и фантастического нет в том, что именно эта коммуникация в 1984 году на коллективном собрании в ЦПКО, насчитывающая более двух сотен человек в изначальных рядах, стала центральной в дальнейших событиях, стремительно обрастая как концертной, так и производственно-фарцовочной индустрией. Стоит отметить, что бытующий в сознании обывателя миф о полупьяных неопрятных неформалах, достаточно долго создававшийся прессой, был наиболее показательно рассеян именно в этот период. Стройными рядами забавно униформированных самцов призывного возраста, еще не севших на мотоциклы, но уже представлявших собой угрозу спокойствию добропорядочных граждан, всячески баламутя вокруг себя ситуацию в рабочих и спальных районах, и имеющих наглость публично собираться и маршировать по центральным московским улицам. Все это закономерно привело к тому, что летом 85 года в Москве впервые прозвучали выстрелы из табельного оружия в воздух, когда толпа ржущих и джинсово-проклепанных подростков пыталась пробиться забавы ради на Красную площадь и была остановлена милицией. В середине 80-х в рамках этой коммуникации на волне организации мотогангов произошла дифференциация на металлистов и рокеров, активно сопротивлявшихся социальному прессингу и ставших элитой рок-движения 80-х, вокруг которых цементировалась металлистические тусовки, оккупировавшие к 85 году «Ладью» (она же легендарная «Яма» на Столешникове). Центром ночных выездов, слухи о которых сотрясали столицу в течение четырех лет, стали «Лужники» и тусовка на задворках МХАТа. Помимо центральных мест, к концу 86 года Москва была опутана сетью металлорокерских тусовок, таких как «Парапет» (лестница у гостиницы «Космос»), где в зимний период неформалы перемещались в вестибюль метрополитена, «Кузня» (сквер возле станции метро «Новокузнецкая» неподалеку от пивняка «Кабан»), куда после закрытия Химкинской филофонии и первой тусовки металлистов 84 года в пивной, названной в простонародье «Квайт райт», или «Квадрат», переместился генералитет металлорокеров и филофонистов. И более мелкими образованиями дальних районов. В Бибирево и Орехово, «Бермуды» (Перово) и «Колокола» на Измайловском бульваре (по колоколообразным раскачивающимся барочным урнам). Волна тяжелого рока захлестнула и Ленинград, где, помимо сложившейся тусовки нового образца на «Треугольнике», в 1985 году металлисты оккупировали соседствующее кафе, обозначенное в истории как «Поганка». Хардкор-волна и смена поколения неформалов в этот период отобразилась на формировании неорокабилльной и панк-хардкоровской волны, с переменным успехом объединявшихся или враждовавших друг с другом. СТИЛЯГИ, ПАНКИ, РОКАБИЛЛЫ Предвестниками этих ленинградских событий выступали более возрастные группы. В конце 70-х появляются достаточно плотные компании битнического характера, по тем или иным причинам не хотевшие отпускать длинные волосы, а наоборот, из вредности и хулиганских побуждений выстригавшие на голове «черти что» или брившиеся наголо. При этом пребывая в таком же, как и остальные сверстники, поиске для автономной самореализации или выхода подросткового адреналина. В Ленинграде возле Исаакиевского собора сформировалась группа битников, тяготеющих к панковской стилистике, представители которой в определенный период попали под влияние некрореалистов. Также в городе присутствовала группа молодежи, тяготеющая к стиляжьей эстетике, но уже на рокабилльной основе. Основными местами дислокации были избраны мажорный «Климат» и фланирование по центральным улицам Ленинграда. В 84-м на этой базе сложился краткосрочный «Тедди бойз клуб», просуществовавший чуть более года. Вслед за чем произошло смещение в сторону панка и рокабилли, немалую роль в котором сыграла «конкуренция» центра и представителей удаленного Купчино, поставлявшего разночинцев как в музыкальную, так и в тусовочную среду. В Москве движение в сторону панка происходило из полухипстерской и нью-вейверской среды первой половины 80-х, тусовавшихся в «Лире» и «Метелице», откуда после драки с «Афганцами» они переместились на Пушку и пребывали вплоть до 85 года. Другая часть нью-вейверов закономерно качнулась в сторону «стиля» после легализации рафинированного советского рокабилли, породившего феномен «пролетарских стиляг». Эту немногочисленную группу обозначали «широкие стиляги» из-за их предпочтений к винтажной стилистике 20-х годов. Ревайвел стиляжничества вскоре произошел в студенческой среде, в силу чего образовалась новая коммуникация, состоявшая из учащихся старших классов, основу которых составляли девушки, и порядка 50 человек, держащих дресс-код. Эти группы собирались на дальнем выходе «Площади Революции» и на Арбате, в «Галерее» (разрушенное тогда здание «Греческого зала») и на дискотеках во «Временах года», «Резонансе» и «Конюшне» (кафе-дискотека в БИТЦе). Со второй половины 80-х Москву и Питер накрыла волна панк-хардкора. Радикализация происходила за счет активного сближения местной неформальной среды с перемещающимися между городами бунтарями-одиночками, сближения и взаимных контактов между обеими столицами и пресловутой транзитности Ленинграда на пути в Прибалтику, где подобное явление развивалось массово и в более санаторных условиях, неся в себе некий оттенок декоративности. Эта волна с брутальным дресс-кодированием стала ответом на социальный прессинг, развернувшийся в Москве, благодаря которому власти пытались загнать хоть в какие-то рамки разгулявшуюся молодежь и одновременно решить проблему занятости и безработицы, поместив рок-эстраду в фарватер перестройки. Тем более что романтически настроенные подростки все еще допускали в недовыдавленном совковом сознании, что под лозунгами «Гласность», «Ускорение», «Плюрализм мнений» кроется нечто позитивное, что должно обязательно случиться везде. Как это уже наглядно состоялось в среде андеграунда, представлявшего из себя на этот момент модернизированную, вполне жизнеспособную модель взаимоотношений, несущую в основе творческую самореализацию через субкультурные стили и музыку. Естественная подростковая система ценностей и внесословные прозрачные взаимоотношения стали привлекательными для мажоров и урелов. Давление и фильтрация в собственных рядах по окончанию прессинга привели к мутации в рокерской и металлистической среде, из которой выделились байкеры, а уличные панк-хардкор-тусовки, дислоцировавшиеся ранее в кафе «Тверь», переместились на Пушку и Патриаршие пруды, сформировав отряды стритфайтеров. Часть панков поддержала винтажную тему, активно развивавшуюся на Тишинском рынке, часть сформировала отряды стритфайтеров. Сближение и смешение неформальных групп произошло на Арбате, где отдельная часть длинноволосых хипстеров сформировала отряд самообороны вместе c маргинализировавшимися афганцами, новое поколение брейкеров качнулось в сторону хип-хопа, а еще одна часть рокеров поддержала рокабилльный стайлинг, к которому примкнули бывшие стиляги. Остатки коммуникации хиппи, поначалу открывшие новое тусовочное место возле Гоголей в кафе «Пентагон», с началом прессинга утратили Яшку, кофейню на Петровке и Арбат, переместившись в сторону Чистых прудов, и осели в «Туристе» (кафе на Мясницкой) и кафешке при ресторане «Джелторанг» на Чистых прудах. Вскоре остатки этой коммуникации вовсе оказались затертыми перестроечными жерновами и исчезли с городских улиц. При этом сами неформальные группы были абсолютно аполитичны и занимались либо творческим самовыражением, либо улучшением собственного статуса и праздным времяпровождением. Никто из этих единственно социально активных групп, несмотря на недовольство деградирующей властью, в целом ничего ни хотел менять. Как раз у них все было в порядке по сравнению с остальным населением страны. Их не устраивали взаимоотношения, но люди менялись сами, выдавливая из себя пропагандистский бред и лоховство. И находили возможности создавать общности в существующих условиях, параллельно криминальным и официальным. И даже когда в 85 году Горбачев для фасадного проведения фестиваля дал зеленый свет сотне диссидентов и говорильне под названием «плюрализм мнений», ситуация в центре города оставалась под контролем вплоть до 89 года. Когда на улицы выползли выдавленные в маргиналии работники КБ, студенты и урела, окончательно разуверившиеся в государстве. А многоумные тем временем читали самиздатные брошюры вельмиречивых, и на кухнях ругались, за исключением немногочисленных представителей «Мемориала» и «Памяти», которых, впрочем, также сдуло с московских улиц, когда начался прессинг 86 года. А всем болтунам и поэтам выдали под «деятельность» залы домов культуры. Где они и пребывали, пока им не разрешили собираться в ЦПКО в 1989-м, перенеся термин «неформалы» уже на эти группы и с теми же целями, когда страна и социальные отношения, включая созданные неформальные, уже трещали по швам. И если политикой уличных неформалов было неучастие в каких бы то ни было официальных представлениях, то религией неформалов стало саморазвитие и самовыражение. Немалую часть которого занимала меломания, как основа стиля и моды.В то время как урелов и гопников более заботило дискотечное и территориальное выяснение отношений. В заключение хотелось бы отметить, что новые неформальные коммуникации дресс-кодированной молодежи, скрепленные внутренним кодексом взаимоотношений и предпочтений, насчитывали не более 500 человек на всю страну, в пику нескольким тысячам мажоров, утюгов и фанатских групп. И сотням тысяч урелов и гопников, позднее подтянувшихся на огонек рок-н-ролльного раскачивания. И несмотря на развернувшееся в 1986 году полномасштабное преследование за внешний вид, эти группы сумели отстоять собственные позиции, переломив чашу общественного мнения на свою сторону. До того как рок-эстраде дали «зеленый свет» на высшем уровне. Но об этом имеет смысл рассказать отдельно.
Фотогалерея |
| ← предыдущая страница 1 2 3 |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля