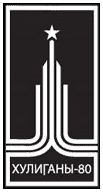Первое впечатление. Петербург на этих снимках не
деформирован никаким «авторским видением».Места вполне
опознаваемы. Автор снимал, в основном, район Коломны: набережные Мойки, Пряжки Екатерининского и Крюкова каналов.
И, наверное, свою округу — двор с какой-то бывшей конюшней, световой колодец,
на который, возможно, выходит окно его жилья или мастерской, крыши и
брандмауэры близлежащих домов.
Это Петербург не туриста, а петербуржца. Не альбомный,
не буклетный. «Вспоминай поскорей петербургский денек, где к зловещему дегтю
примешан желток» — скорее вот какой Петербург. Бессолнечный Петербург,
«знакомый до слез».
Взгляд объектива ровен и спокоен, и не погружен в
себя, но и не сконцентрирован на окружающем. Никакого разглядования
или любования. Автор одинаково отстраненно снимает и оград узор чугунный
набережных, и инсталяции вытяжных труб и сантехники
своего двора. Он, просто констатирует, что он — видит. Все сразу и
ничего лишнего, ничего не не
выделяя, удостоверяет присутствие знакомого на привычном пути. Дом, улица,
фонарь, аптека… апnека, улица, канал.
Невозможно только разобрать, в какое время суток снят
город — ни день, ни ночь, ни рассвет, ни сумерки. Да и время года не ясно:
весна ли, зима ли, осень? Ясно, что не лето, но на белую ночь похоже. Белая
ночь в холодное время года (впрочем, на некоторых снимках можно угадать листву
на деревьях, другие явно сделаны в зимнее время). В тоже время
очевидно, что эта неясность времени и сезона на снимках не случайна, как будто
автор хотел представить какую-то единую погоду и какое-то общее время суток.
Сразу
и не понятно, чем притягивают эти, в общем-то,
обычные снимки. Что на них, собственно, изображено. Ведь не то же, что
и так
хорошо известно. А потом понимаешь — свет. Свет на снимках не
принадлежит погоде, времени суток, времени года. В нем присутствует и
что-то от
этих явлений природы, но у него, при этом, какая-то своя природа. Он не
производное от них, он сам по себе такой свет. «И тьма — как
будто тень от света, / И свет — как будто отблеск тьмы./ Да был ли
день? И ночь
ли это?» Это свет и белой ночи, и зимнего пасмурного дня и еще чего-то,
что
почти всегда и везде присутствует в городе, какая-то его световая
константность, часть его существа-вещества.И
это знает автор снимков. Кажется, что он уловил его где-то своей
оптикой, идет
своей дорогой, и смотрит свозь него на окружающее.
Чтобы яснее представить, что же, собственно,
представил нам автор, обратимся к некоторым структурным свойствам
петербургского пространства.
Одна
особенность предопределила характер и облик
Санкт-Петербурга. Город создавался как архитектурная аллегория новой
государственности, как зримая эмблема Российской империи — части
Большой
Европы. Вследствии этого в концепции Петербурга ( в
полном соответствии с господствовавшей эмблематической системой
барокко,
латентно определявшей структуру и облик художественного проекта любого
масштаба,) доминировало зрелищно-демонстрационное начало. Развитие
Петербурга с самого начала (это отмечал Ломоносов, это отражено в цикле
гравюр
Махаева) шло как обстраивание берегов Большой Невы
сооружениями, эмблематически репрезентировавшими
структуру новой государственности: Зимний дворец — Имперскую власть,
Петропавловская крепость — Военную силу на новых западных рубежах,
Здание
12 Коллегий — принципиально новую «западную» Исполнительную власть (а
не
какие-то азиатские «приказы»), Биржа — Экономику и международно
ориентированную
торговую политику, Адмиралтейство — Морскую мощь и геополитические
амбиции, Кунсткамера — Просвещение и Науки, и т. д. Можно сказать, в
качестве первой очереди строительства города был сооружен архитектурный
герб
новой России. Большая Нева в этой эмблематике презентировала
Международное присутствие, это была
метафора Европы, прямой связью с которой претендовала быть новая
столица. Река
выступала центром, на который были развернуты фасады строений-эмблем.
То есть,
Петербург с самого начала градостроительно мыслился
как фасад, обращенный к воде, и в своем развитии довел эту идею до
предельного
тотального воплощения, набережные стали стали
доминантой в облике Петербурга, а зрелищностть и фасадность его
определяющей чертой. Если первоначально в
этом и был хозяйственный мотив — сделать водный транспорт основным в
городе (15
линий — когда-то набережных Васильевского острова свидетельствуют об
этом), то
очень быстро он перерос в идеологию тотальной фасадности,
обращенности архитектуры к максимально открытому пространству, которым
выступала вода, распространившуюся на всю застройку города (уникальные
по
обширности петербургские площади можно рассматривать
как распространение принципа фасадно обстраивать
набережные, площади мыслились как водоемы пространства).
К Елизаветинской эпохе, времени следующего
строительного бума, эмблематическо-смысловая
концепция столицы перерастает уже в чисто эстетическую
— строить город-зрелище. В Екатерининско-Александровское
время эта концепция уже осуществлена и с адекватным блеском отрефлектирована:
«… Какой город! Какая река! Смотрите — какое единство! Как все части отвечают
целому, какая красота зданий, какой вкус и в целом какое разноообразие,
происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните… на набережную, на сии
огромные дворцы — один другого величественнее! На сии домы — один другого красивее! … с каким удовольствием взор
мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух
набережных, единственных в мире!» — восклицает Батюшков в «Прогулке в Академию
Художеств» (1814). Предела градостроительные амбиции фасадности
достигли в эпоху архитектурного триумфа в честь победы в Отечественной войне
1812 года. В ампирных проектах Карла Росси, который вообще стремился превратить
все строения, улицы и площади города в единый всеохватывающий фасад (самый
грандиозный и показательный из его проектов — почти реализованный единый
ансамбль-фасад, включавший Чернышеву площадь (пл.Ломоносова)
на Фонтанке, Театральную улицу (Улицу зодчего Росси), Театральную площадь (пл.
Островского) с Александринским театром, Михайловскуюулицу
(ул.Бродского), Михайловскую площадь (пл. Искусств) с Михайловским дворцом,
Малую Садовую с Манежем почти до Марсова поля.)
Одержимость Санкт-Петербурга идеей фасадности
отчетливее всего видна там, где проходит граница зрелищности, где фасад обрывается и зримость не предусмотрена. Эту границу
представляет глухая торцевая или задняя сторона строения — брандмауэр. В
контексте фасадности все что
за ним и он сам — уже не фасад, не зрелище, не архитектура. И даже не город. Не
значащее и не значимое. Здесь сложная урбаническая
условность города-столицы, все ее стилевые амбиции, прихотливая игра масс,
пропорций? архитектурных цитат, реплик, без предупреждения и перехода
обрывается в архитектурное ничто, в то, что лицевая сторона сплошной фасадной
застройкой прячет. Пространственные разрывы и каменные пустоты дворов-анфилад,
скопления разновысоких жилых и нежилых строений без
карнизов, с окнами без наличников, с наростами дымоходов, вытяжных труб и
отдушин на крышах, на которых копоть многих десятилетий, глубокие тоннели
подворотен и световых колодцев. Это не просто неустранимый изъян в
безукоризненности архитектурного зрелища, это нутро столицы, столь же бурно и
неудержимо, что и фасадная часть, разраставшаяся внутрь городского
пространства, его столь же уникальная, как и наружняя,
зафасадная архитектоника.
Ко второй половине Х1Х века осмысление роли и облика
столицы меняется на прямо противоположное: прославлявшееся становится
проклинаемым, и все зафасадное в ней, до поры до
времени времени не значащее
и не значимое, вдруг обрело качество альтернативного образа. Зафасадное
становится высказыванием города о своем вытесненном архитектурном заличьи, о своем угнетенном социальном подсознании, о своем
культурном подполье. О мнимости города-фасада: Мне не раз, среди этого
тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот
туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с
туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото…?» (Ф.Достоевский. «Подросток»).
Тем временем, брандмауэр неизбежно рос вместе с
фасадами города, c той же стремительностью и все выше
и выше — ведь он их обратная, дворовая сторона. Каждая новая волна обновления
города вздымала над четырехэтажными домами глухие стены и торцы выстроенных
вплотную к ним спиной пяти и шести этажных, а затем, над
последними — семи этажных. Архитектурная эпоха начала ХХ века, давшая городу
роскошные громады домов-кварталов на Петроградской
стороне, Васильевском острове, Залитейной части,
Коломне, да и в самом центре города, внесла в облик Петербурга и самые мощные
брандмауэры.
Петербургский брандмауэр — это гениальная альтернатива
его гениальной фасадности.Отовсюду
видимый, к этому времени он уже знаменуют над крышами города его скрываемое заличье. Пластической избыточности
фасадов брандмауэр противостоит как противоестественная двухмерность,
демонстративно обнажающая безобразные разрывы и выломы в холеной фасадности города. Брандмауэром манифестирует о себе
вся антистоличная жизнь столицы, вся ее униженность и
оскорбленность, то страданье Петербурга, которое со
времен Гоголя открылось русской (петербургской) литературе за лицевой стороной
города в подворотнях, черных лестницах, каморках под крышей, слепых полуподвалахъ, ночных площадях-пустынях, зловонных каналах,
азиатских рынках:
Не здания его, не пышный блеск палат
И не
граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозираю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его
страдание больное.
И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится
ночь без тьмы и тени,
Когда прозрачно все, мелькает предо мной
Рой
отвратительных видений…
(А.Григорьев. Город. 1845)
Фасад
— это солнечная сторона города, это солнечный
свет, претворенный в форму и пластику архитектурного пространства.
Другая, заличная сторона с той же интенсивностью хаотической
инсталяцией масс, объемов, плоскостей пространство поглощает.Брандмауэр
— это переход
не только из объема в плоскость, из гармонии в хаос, из высказывания в
немоту,
из жизни в существование. Но и из внешнего, природного, солнечного
света в перербургский свет. Брандмауэр обозначает
границу, за которой начинается накопитель и отстойник уникального
вещества-существа Петербурга — остаточного освещения. В геометрических
емкостях
световых колодцев, дворов и подворотен осуществляется деструкция живого
света в
его синтетический продукт, прожиточный минимум света. Свет на дне
колодца,
«водой разведенный мел».
Итак, теперь уже можно утверждать, что в начале только
предполагалось: на снимках не любительское блуждание по набережным, и не профессиональная
охота альбомного фотомастера. Все снимки предполагают неслучайную
последовательность. Запечатлен, повидимому,
привычный, разновременной и, может быть, даже многолетний маршрут автора, но он
смыслен им как проект. Содержание этого проекта — путешествие
между топографическими окраинами и культурно-смысловыми полярностями города —
двором-колодцем в районе Коломны, и одним из красивейших городские пейзажей в
дворцовой части города. Это маршрут из Петербурга внутреннего во внешний. От брандмауэра города к его фасаду. Из
петербургского света к свету солнечному.
Логично
предположить, что снимать автор начал прямо с
места своего обитания. Он представил нам, что всегда видит из окна
своей матерской (или жилья) под крышей 5-6 этажного дома где-то на
Почтамтской — крыши с
чердаками-мансардами окружающих домов, купол Исаакия
в отдалении. Затем из окна верхней площадки своей черной лестницы —
другую
сторону: близлежащий двор с нагромождением разновысоких строений и
брандмауэр
соседнего дома. Вышел из подъезда, сфотографировал закоулки своего
двора. А
дальше мы видим егоприсутствие на набережных в разных
местах, зависимости от конкретной цели. Вот он у Калинкиных мостов в
туман. Вот
у Мучного моста во время снегопада. На Садовой, в месте, где
ее пересекает Крюков канал, смотрел на проталины на льду канала, прошел
по
набережной Крюкова мимо Никольского собора, а потом с
Тюремного моста, что у Новой Голландии обернулся и сфотографировал
уходящую к
Фонтанке перспективу набережных — свой пройденный путь. А вот, тоже
набережная Крюкова, но уже там, где он ближе всего
подходит к Сенной, время года уже похоже на летнее, на
деревьях листва, катер мчится по каналу и мощный бурун за его кормой
сверкает в
лучах — солнечного или лунного света? Коломенские набережные это, судя
по
всему, его Петербург. Но вот Екатерининский канал аристократически
выпрямляется
и выводит его к Малому Конюшенному мосту — в другой Петербург. К тому
месту,
где по замечательной культурологической метафоре Д.С.Лихачева, однажды
(1 марта
1881 года) встретились два уже смертельно ненавидевших друг друга
Петербурга. Дворцовый и Коломенский, аристократический и
деклассированный
(город-зрелище и город-брандмауэр. — Л.С.) Это место убийства
Царя-Освободителя Алексндра П,
обозначенное Храмом Воскресения на крови. Фотограф примерил свою
бессолнечную
оптику петербургского двора к одному из самых светлых и радостных (по
словам
того же Лихачева — однажды он рассказал об этом храме на страницах
этого
журнала) сооружений зрелищного, солнечного Петербурга. Он снял его
золотые
кресты и разноцветные эмалевые купола — само петербургское солнце. Но
солнце и
свет не отразились в объективе. Получился холодный, ослепляющий
«отблеск тьмы»
отраженного окнами лестничных клеток и кухонь дворового света. Света в
конце
Коломны. В это и заключается цель его проекта — взглянуть на город
сквозь свето-фильтр двора-колодца.
Автор, повидимому,
стремился, как и поэзия Серебряного века, посвященная Петербургу (здесь нужно
было бы перечислить весь литературный алфавит от Адамовича до Юнгера), представить синтез обоих, предшествующей
петербургской литературой безнадежно разведенных, обликов Петербурга — и его
фасад, и его заличье, и «желчь петербургского дня», и
«адмиралтейский лучик» — в единый их примиряющий образ.
Автор этих снимков — фотограф и петербуржец Борис
Смелов (1951–1998). Хорошо знавший, что такое петербургский свет, и
догадавшийся, как его вынести на свет божий.
Лев Смирнов ,журнал Наше наследие номер 66.
Помещена в раздел Статьи,Материалы.