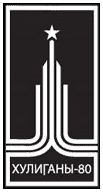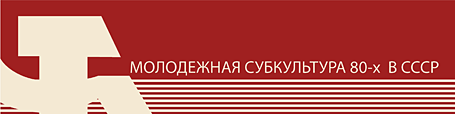

Колин МАКИННЕСС.Абсолютные новички
|
Итак, я рыскал по Белгравии в своем новом римском костюме, что было подвигом первооткрывателя в Белгравии, где люди все еще носят пиджаки, свисающие ниже того места, которое портные называют «сидячим». А на шее у меня висел мой Роллейфлекс, его я всегда держу наготове ночью и днем, потому что неизвестно, когда может случиться катастрофа, например, самолет рухнет на Трафальгар-сквер, и ее я смогу продать ежедневным газетам, в которые заворачивают рыбу или жареный картофель. Либо какой-нибудь скандал, например, известные персоны с различными нелицеприятными женщинами, его очень выгодно продал бы маленький Уиз. Это привело меня к Уэйн Мьюз Уэст. Как и остальные тихие Лондонские заводи, это была вполне сельская местность, с мостовыми, клумбами, тишиной и запахом конского навоза повсюду. Я увидел мотороллер «Веспа», припаркованный возле недавно построенной конюшни, и сгорбившуюся над деревянной кадкой возле хромированной входной двери фигуру в шелковом розовато-лиловом тайском летнем костюме. Я щелкнул пальцами, пытаясь обратить его внимание на себя. — Здорово, — сказал он, глядя вверх и улыбаясь мне. — Ты хочешь, чтобы я позировал для тебя возле моей «Веспы»? — Вам не могли выдать что-нибудь с четырьмя колесами? — сказал я. — Вы, наверное, из какой-нибудь испорченной маленькой страны? М-р Микки П. был не очень доволен. — Я разбил ее, — сказал он. — Это был Понтиак Конвертибл. — Это наше правило левой стороны такое неудобное. — Я знаю правила, в меня просто врезались. — Как всегда, — сказал я. — Что? — Стойте спокойно, пожалуйста, и улыбайтесь, если хотите такой снимок. Я щелкнул его несколько раз. Он стоял возле своего скутера, как будто это был арабский пони. — В вас всегда врезаются, — объяснил я. — Всегда вина лежит на другом. М-р Пондорозо прислонил свой скутер к стене Уэйн Мьюз Уэст. — Ну, я не знаю, — сказал он, — но в вашей стране очень много плохих водителей. Я перемотал катушку. — А в вашей стране они какие? — спросил я его. — В моей, — сказал он, — это не имеет значения, потому что дороги широкие, а автомобилей меньше. Я поглядел на него. Мне хотелось выяснить, откуда он, но я не хотел задавать прямых вопросов, что всегда мне казалось грубым путем разузнать вещи, которые при некотором терпении люди скажут тебе сами. К тому же, мы все еще были на подготовительной стадии, необходимой при встрече со взрослыми, неважно, какой расы. — Вы латиноамериканец? — спросил я у него. — Я родился там, да, но живу в Соединенных Штатах. — О, да. Вы представляете обе страны? На его лице появилась дипломатическая улыбка. — Я работаю в ООН. Пресс-атташе делегации. Я не спросил у него, какой. — Интересно, могу ли я спрятаться у вас дома от этого яркого света, чтобы поменять катушку? — Чтобы что? — Перезарядить камеру. Кстати, — сказал я, разглядывая его в галерее, — я думаю, что нам с вами надо поговорить о фотографии. Сюзетт прислала меня, вы ее встретили у Хенли. Он поглядел на меня осмотрительно и пустым взглядом, потом вновь вернулся к дипломатической улыбке и похлопал меня по плечу. — Заходи, — проговорил он, — я ждал тебя. Изнутри квартира выглядела клево и дорого — знаете, с покрытой стеклом белой металлической мебелью, американскими журналами, комнатными растениями и сифонами, но было ощущение, что ничто из этого не принадлежало ему, в чем я и не сомневался. — Выпьешь? — спросил он. — Спасибо, нет, я не буду, — сказал я ему. — Ты не пьешь? — Нет, сэр, никогда. Он уставился на меня, держа бутылку и стакан и казалось, что он впервые по-настоящему заинтересовался мной. — Тогда как же ты сдерживаешь себя? Мне так часто приходилось разъяснять это старшим собратьям, что это превратилось уже почти в рутину. — Я не использую кайф от алкоголя, — сказал я, — потому что весь нужный мне кайф я получаю от себя самого. — Ты вообще не пьешь? — Либо ты пьешь много, либо, как я, ты не пьешь вовсе. Ликер создан не для придачи энергии, а для оргий или для полного воздержания — это единственно мудрые отношения между мужчиной и бутылкой. Он покачал головой, и налил себе немного смертельного варева. — Так значит, ты — фотограф? Я понял, что мне нужно быть очень терпеливым с этим типом. — Так точно, — ответил я и продолжил, еще не подозревая, с какими странностями мне придется столкнуться. — Какие снимки вам нужны? Он выпрямился и напряг свой торс. — О, я бы хотел, чтобы ты сфотографировал меня. — Вас? — Да, это что, необычно? — Ну, да, немного. Мои клиенты обычно заказывают снимки с моделями, делающими то и се… Я пытался осторожно намекнуть ему на его странности. Но он сказал, — Я не хочу моделей, только себя. — Да я понимаю. А что вы будете делать? — Атлетические позы, — ответил он. — Только вы один? — Конечно. — Он видел, что я все еще был растерян. — В моей гимнастической форме, — добавил он. Он поставил стакан и бутылку и отправился в соседнюю комнату, пока я листал американские журналы, посасывая тоник. Потом он вышел одетый — клянусь, что ничего не выдумываю — в пару голубых баскетбольных кроссовок с белыми шнурками и черные трико. Его обнаженная грудь была покрыта густыми волосами, как рождественская открытка, а на голове у него была маленькая круглая купальная шапочка. — Можешь начинать, — сказал он. — Сколько поз вы хотите? — Около ста. — Серьезно? Это обойдется вам недешево… Вы хотите делать что-нибудь конкретное или просто позировать? — Я полагаюсь на твое вдохновение. — О" кей. Тогда просто ходите вокруг. Ведите себя естественно. Щелкая аппаратом, я продумывал основные вопросы, которые мог бы задать ему; мне было интересно, был ли он банкротом, или лунатиком, или у него были столкновения с законом, как у многих жителей столицей в эти дни. Этот сумасшедший латиноамериканец неуклюже бродил среди мебели в своих апартаментах, принимая нарциссические позы, будто он уже восхищался снимками этого огромного великолепного мужчины. Через какое-то время после этих движений в тишине — он потеет, я гоняюсь за ним, щелкая фотоаппаратом, словно профессор с сачком для бабочек, — он схватил свою выпивку, рухнул в белое, покрытое блестящей кожей кресло, и сказал: — Возможно, ты способен мне помочь. — Я тоже так думаю, М-р Пондорозо. — Зови меня Микки. — Как скажете, — сказал я ему, делая непоколебимый вид, и перезаряжая свой аппарат. — Дело вот в чем, мне нужно закончить исследование для своей организации о пути британского народа середины ХХ столетия. — Отлично, — произнес я, думая, как бы скорее добраться до сотни, и щелкая его сидящего, с животом, вываливающимся избалетных трико. — Я исследовал англичан, — продолжил он, — но у меня очень мало интересных идей насчет них. — Как долго вы их исследовали? — Недель шесть, думаю; я знаю, это не очень долгий срок. Но даже за это время я не увидел никаких перспектив. Микки П. вопрошающе глядел на меня в промежутках между глотками. — Даже погода неправильная, только взгляни в окно, — сказал он, — Английское лето должно быть холодным. Я понял, что он имел в виду. Старое солнце Сахары неожиданно вылезло на небо и перепекло нас в совершенно другую форму, отличающуюся от обычной сырой мягкотелой массы. — Попробуйте задавать мне вопросы, — проговорил я. — Ну, давай возьмем две главные политические партии, — начал он, и я сразу понял, что он подготавливается к большой речи. — Нет, благодарю, — выпалил я, — я не хочу быть задействованным ни в той, ни в другой. Его лицо немного вытянулось. — Они тебя не интересуют, в этом все дело? — А как же иначе? — Но ведь ваши судьбы разрабатываются по их инициативе… Я сфотографировал его небритое лицо ужасным крупным планом. — Если кто-либо, — перебил я его, — и разрабатывает мою судьбу, так это уж точно не эти парламентские чуваки. — Ты не должен презирать политиков, — возразил он мне. — Кому-то ведь надо заниматься домашним хозяйством. Здесь я отпустил свой Роллейфлекс, и начал бережно выбирать слова. — Если бы они занимались лишь домашним хозяйством и прекратили бы играть в Уинстона Черчилля и Великую Армаду, так как время оловянных солдатиков прошло, тогда бы их никто не презирал. Их бы просто не было заметно. М-р Пондорозо улыбнулся. — Я думаю, сказал он, — это бы подошло политикам. — Я надеюсь, — ответил я. — Тогда что ты скажешь о Бомбе? — спросил М-р П. — Что ты будешь делать с этим? Все понятно, я связался с настоящим зомби. — Послушайте. Никто во всем мире моложе двадцати лет ни капельки не заинтересован в этой вашей бомбе. — Ага, — оживился чудак-дипломат, его лицо при этом стало хитрым. — Вы, может и не заинтересованы — я имею в виду, здесь, в Европе, — но как насчет молодых людей в Советском Союзе и в США? — Молодые люди в Советском Союзе и в США, — процедил я ему сквозь зубы, — не дадут и маленького куска кошачьего дерьма за эту вашу бомбу. — Полегче, сынок. Откуда ты знаешь? — Мужик, это же только вы, взрослые, хотите уничтожить друг друга, и я должен сказать, говоря, как так называемый подросток — мневас вовсе не жаль. Разве что в процессе уничтожения друг друга вы убьете несколько миллионов нас, невинных ребятишек. М-р П. чуть раздражен. — Но ты же не был в Америке, не так ли? — прокричал он, — или в России, где ты мог бы поговорить с молодыми людьми! — А зачем мне ехать туда, мистер? Необязательно путешествовать, чтобы узнать, каково быть молодым — когда угодно и где угодно. Поверьте мне, мистер Пондорозо, молодежь интернациональна, как и старики. Мы все очень любим жизнь. Я не знал, сказал ли я сейчас чушь, или думает ли так же хоть кто-нибудь кроме меня во всей Вселенной. Однако, как бы там ни было, я верил в это, основываясь на своих собственных наблюдениях и разговорах со своим старым Папашей. М-р П., казалось, разочаровался во мне. Потом лицо его немного просветлело, он вопрошающе поднял брови и сказал: — Это оставляет нам лишь одну английскую тему, но очень важную… (при этих словах чудила в балетных трико поднялся и отдал честь)… И это Ее Величество Королева Британии! Я вздохнул. — Нет, пожалуйста, только не это, — сказал я ему очень вежливо, но уверенно. — На самом деле мы очень, очень, очень устали от этой темы. Я даже не имею на этот счет никаких соображений из-за полного отсутствия интереса. М-р Пондорозо выглядел так, будто он провел бесполезно все утро. Он поднялся, и его гимнастическая форма немного приспустилась, показав складку волосатого брюха оливкового цвета. Он пробормотал: — Значит, ты немного можешь рассказать мне о Британии и позиции, которую она занимает. — Только то, — сказал я, — что ее позиция в данный момент — это поиск своей позиции. Он не стал с этим спорить, поэтому, улыбнувшись мне, он ушел, чтобы вернуть себе респектабельный вид. Я поставил пластинку на его новехонькую стереосистему, выбрав Билли Х., от которой я тащусь даже больше, чем от Эллы. Но только когда я усталый и унылый, как в данный момент: от встречи с Сюз, тяжелой работы с Роллейфлексом и потом от этой идиотской беседы. А Леди Дэй столько выстрадал в своей жизни, что ты забываешь все свои невзгоды, и вскоре я вновь был весел, как котенок. — Хотел бы я иметь эту пластинку, — сказал я, когда появился М-р П. — Бери, пожалуйста, — просиял он. — Подождите, пока вы получите счет за те снимки, что я нащелкал, прежде чем дарить мне подарки, — предупредил я его. Он ответил мне, что было довольно мило с его стороны, тем, что положил пластику обратно в конверт и впихнул ее мне под мышку, как будто письмо в почтовый ящик. Я поблагодарил его, и мы вышли на солнцепек. — Когда вам надоест ваша Веспа, вы можете отдать мне и ее тоже. Верьте или нет, это сработало! — Как только починят мой автомобиль, — сказал он, похлопывая рукой по сидению, — эта игрушка твоя. Я взял его за руку. — Микки, — сказал я, — если ты имеешь в виду это, я — твой. А снимки, надо сказать, это просто любезность. — Нет, нет, — разгорячился он. — Это совершенно другое дело. За фотографии я заплачу наличными. Он поспешил в дом. Я посидел на сидении скутера, просто для того, чтобы почувствовать, каково это; когда он вышел из дома, на нем был его тайский серебряный пиджак. Он дал мне сложенный чек. — Благодарю, — сказал я, разворачивая его. — Но, знаешь, это не наличные. — О. Ты предпочитаешь наличные? — Не в этом дело, Микки — просто ты сказал «наличные», понимаешь? Давай посмотрим, где находится филиал банка. Остановка Виктория, это прекрасно. Я вижу, что это не одно из множества отвратительных неблагоприятных заведений, молодец. Я успеваю туда до закрытия, всего доброго. Я умчался, обдумывая, что насчет скутера он говорил абсолютно серьезно. И если я хотел действовать быстро и сделать снимки, чтобы держать с ним контакт и поднажать на его совесть, если она у него была, чтобы прибрать к рукам это средство передвижения, то я должен был скорее попасть домой, в свою темную комнату. Куда я и стремился, заскочив по пути в банк, который уже готовился к закрытию, когда я прибыл — на самом деле, клерк уже закрыл половину двери. Он осмотрел меня сверху донизу, мою Спартанскую прическу, мои подростковые шмотки и все прочее, и просто сказал, "Да? ". — Что «да»? — ответил я. — У вас здесь дело? — спросил он меня. — Да, — разъяснил ему я. — Дело? — повторил разбитый нищетой продавец из канцелярского отдела. — Дело, — сказал я. Клерк все еще держал дверь. — Мы закрываемся, — произнес он. — Если мои глаза меня не подводят, — ответил я, — часы над вашим столом показывают без четырех три, так что будьте любезны, вернитесь за свой стол и обслужите меня. Служащий ничего больше не сказал и прошел за свою стойку, потом поднял брови, и я дал ему чек М-ра Пондорозо. — Вы являетесь, — спросил он, изучив его так, будто это была какая-то штука, которую в банке раньше никогда не видели, — предъявителем векселя? — Кем? — Это, — сказал он медленно и с расстановкой, как будто имел дело с глухим китайским лунатиком, — ваше — имя — написано — на — чеке? — Jawohl, mein kapitan, это оно. Сейчас клерк выглядел дьявольски раздраженным. — И как, — поинтересовался он, — я узнаю, что это ваше имя? — А как вы узнаете, что оно не мое? Он прикусил губу, как пишут в дешевых романах, и спросил меня: — Есть ли у вас какой-нибудь документ, подтверждающий это? — Да, — ответил я. — А у вас? Он открыл и закрыл глаза и спросил: — Где документ? — Здесь, в кармане моих джинсов, на моей жопе, — сказал я ему, проворно хлопая по той самой части тела. — Я ношу с собой бумажник, где лежат мои водительские права, в которых написано, что дорожных правил я не нарушал; мой сертификат донора крови показывающий, что за этот год я сдал две пинты, и членские карточки бесчисленных джаз клубов и ночных баров с запрещенным алкоголем. Вы можете взглянуть на них, если вам сильно хочется, или вы можете привести сюда М-ра Пондорозо с завязанными глазами, или все-таки вы закончите играть в игры и, наконец, дадите мне десять фунтов, которые хочет заплатить мне ваш клиент, даже если в вашей кассе мало бабок. На что он ответил: — Вы еще не расписались на обратной стороне документа. Я накалякал свое имя. Он повертел чеком, начал писать на нем и, не поднимая глаз, сказал: — Я понимаю так, что вы несовершеннолетний? — Да, — ответил я, — если уж так, то да. Он все еще ничего не сказал и все еще не отдавал мне мои деньги. — Но теперь я уже большой мальчик и знаю, как дать сдачи, когда меня атакуют, — сказал я. Он выдал мне две банкноты так, будто это были два бракованных экземпляра, за существование которых Банк стыдился, потом вышел из-за своего прилавка, проводил меня до двери и закрыл ее прямо за моими пятками. Должен заявить, что этот инцидент меня разозлил, вовсе необязательно и старомодно было обращаться с тинейджером, как с ребенком, и я направился от Виктории по направлению к своему дому в довольно сильной ярости. Я должен объяснить, что единственная темная комната, находившаяся в моем распоряжении, без которой мне пришлось бы, конечно, тратить деньги на печатанье фотографий, находится в резиденции моих родителей в Южной Белгравии, они называют ее Пимлико. Я думаю, вы догадались, что мне не нравится ходить туда, и я не живу в этой квартире (кроме того периода, когда они уезжают на свои летние приморские оргии) уже несколько лет. Но родители все еще держат то, что называется «моей комнатой», сзади в пристройке, бывшей оранжереей с цветами в горшках. Семья, если так ее можно назвать, состоит, кроме меня, еще из трех человек, плюс различные добавки. Эти трое — мой бедный старый Папаша, на самом деле он не такой уж и старый, ему всего лишь сорок восемь, но он был разбит и сломан в 1930-х, как он мне всегда рассказывает; потом моя Мама, которая выглядит старше, чем она есть на самом деле, то есть на три или четыре года старше моего Папаши, и, наконец, мой единоутробный брат Верн, которого Мама родила от загадочного мужчины за семь лет до встречи с моим папкой, и который является наипервейшим чудаком, бездельником и чудовищем на всей территории Уэстминстер-сити. А что касается различных добавок, то это жильцы Мамы, так как она держит пансион, и некоторые из них, чему бы вы не удивились, если бы знали мою Маму, поселились очень крепко. Хотя, опять же, мой Папаша ничего не может поделать с этим, ибо его дух был сплющен комбинацией из моей Мамы и 1930-х годов. И это одна из немногих причин, по которой я покинул дорогой родительский дом. Мама мне не дает ключи от дома и, кстати, не дает их своим жильцам, так как она хочет следить за их приходами и уходами, даже поздней ночью. Так что, хоть естественно, у меня есть запасной ключ на всякий случай, я прохожу через церемонию звонка во входную дверь, только из вежливости, а так же для того, чтобы показать ей, что я являюсь гостем, и не живу здесь. Как обычно, хоть она и злится, когда ты спускаешься по ступенькам вниз к черному входу, где она почти всегда находится, Мама вышла во двор снизу и посмотрела, кто это — вместо того, чтобы сразу подняться по лестнице в доме и открыть мне парадную дверь, что она должна была сделать в первую очередь, если бы она была воспитанной. И вот, наконец, появилась она. При виде брюк, даже ее собственного сына, ее лицо засветилось этим слюнявым сексуальным выражением, которое всегда бесило меня, потому что, в конце концов, у моей Мамы были настоящие мозги, спрятанные под кучами этой очень желанной плоти. Но она использовала их только для того, чтобы выглядеть еще более желанной, словно перец, соль и чеснок на подгоревшей свинине. — Привет, Дитя Бомбежки, — сказала она. Она зовет меня так, потому что родила меня во время одной из них в бомбоубежище в метро с уполномоченным местной противовоздушной охраны в роли акушера, и она никогда не устает рассказывать это мне, или, еще хуже, всем, кто находится рядом. — Здорово, Ма, — сказал я. Она все еще стояла на месте, положив мыльные руки на свои бедра, смотря на меня взглядом «подойди поближе», которым, по моему мнению, она смотрела на своих жильцов. — Ты собираешься открывать? — сказал я. — Или мне придется забраться внутрь через окно. — Я сейчас пришлю твоего отца, — ответила она мне. Я думаю, он сможет тебя впустить. Это был трюк моей Мамы, она говорит со мной о Папаше, как будто он относился лишь ко мне, только ко мне, и она никогда не имела ничего с ним общего (конечно, кроме половых связей и женитьбе на этом жалком старике). Я предполагаю, что это из-за того, что, во-первых, Папаша так называемый неудачник, хотя я не думаю, что он такой на самом деле, но все остальные знают, что он никогда не добивался успеха нигде и ни в чем. Во-вторых, она хочет этим показать, что ее первый муж, тот, который заставил ее произвести на свет кошмар высшего класса, моего старшего полубрата Вернона, был настоящим мужчиной в ее жизни, не то, что мой бедный старик. Впрочем, это ее маленький кусочек женской психологии: несомненно, очень многое о женщинах люди узнают на примере своей мамы. Меня еще некоторое время подержали за дверью, и если бы мне не так нужна была моя темная комната, видели бы они меня. Наконец появился Папаша с выражением мертвой утки, но не на лице, а на всем его жалком, старом, покрытом перхотью теле. Это сводит меня с ума, ибо, на самом деле, у него есть характер, и, хотя, он не очень то умен, он много читает, как и я, — я имею в виду, пытается взять все лучшее, в отличие от Мамы, которая и не пыталась вовсе и даже не думала об этом. Как обычно, он открыл дверь без единого слова, кроме «привет», и начал подниматься по лестнице к себе в комнату на чердаке, хотя это было полностью наигранно, ибо он знал, что я пойду за ним, чтобы немного побеседовать, только из вежливости, и чтобы показать ему, что я его сын. Но сегодня я не сделал этого, частично оттого, что мне неожиданно надоел его вид, частично оттого, что мне предстояло много работы в моей темной комнате. Так что я направился к своей цели, и можете себе представить, обнаружил, что этот ужасный старый чудила Вернон устроил себе там кукушкино гнездо, что было чем-то новым. — Привет, Жюль, — сказал я ему. — И как поживает мой любимый парнюга? — Не называй меня Жюлем, — ответил он. — Я уже говорил тебе. Говорил, наверное, 200 000 раз или больше, с тех самых пор, как я изобрел для него это самое имя, из расчета Вернон = Верн= Жюль, автор «Вокруг света за восемьдесят дней». — И что же ты делаешь в моей темной комнате? — спросил я своего неотесанного брата. Он поднялся с походной кровати в углу — одеяла без простыней, очень похоже на Вернона — подошел ко мне и начал изображать сцену, которую он исполнял с монотонной регулярностью я уже и не помню, с каких времен. А именно, становился напротив меня и приближался вплотную, тяжело дыша и испуская запах пота. — Что, опять? — спросил я его. — Еще одна банальная имитация Кинг-Конга? Его кулак шутливо просвистел мимо моего лица. — Подрасти, Вернон, — сказал я ему очень терпеливо. — Ты ведь уже большой мальчик, живешь на свете более четверти столетия. Дальше могло случиться лишь две вещи: либо он толкнул бы меня, в таком случае естественно было бы кровавое побоище, но только он знал, что мне удастся вмазать ему по крайней мере один раз, что могло бы его крепко пошатнуть, и, возможно, причинить ему вред на всю жизнь. Либо он бы неожиданно почувствовал, что все это ниже его достоинства и захотел бы поговорить со мной или с кем угодно, так как бедный старый орангутанг был очень одиноким. Поэтому он ухватился за мой короткий итальянский пиджак своими огурцеподобными пальцами и спросил: — Для чего ты носишь эту штуку? — Извини, Вернон, — сказал я, осторожно пройдя мимо него, чтобы разрядить камеру на своем столе. — Я ношу ее, — сказал я, снимая пиджак и вешая его в шкаф, — чтобы мне было тепло зимой, и чтобы летом пленять девчонок вилянием хвоста. — Хн! — промычал он. Его ум работал быстро, но ничего не выходило, кроме этого шума полярного медведя, борющегося с ветром. Он оглядел меня сверху донизу, пока его мысли не сфокусировались. — Эта одежда, которую ты носишь, — сказал он, наконец, — меня от нее тошнит. Еще бы! На мне были все мои тинейджерские шмотки, которые могли бы его разозлить — туфли из крокодиловой кожи в серую точку, пара розовых неоновых нейлоновых чулок из крепа, доходивших мне до лодыжек, мои Кембриджские джинсы, сидевшие на мне, как перчатка, жизнерадостная рубашка в вертикальную полоску, показывавшая мой талисман, висевший на цепочке, на шее, и римский пиджак, о котором сейчас шла речь… не говоря уже о браслете на запястье и о моей прическе Спартанского воина, которая, по мнению всех, стоила мне 17 долларов и шесть даймов на Джеррард-стрит, Сохо, но которую я, на самом деле, сделал сам при помощи педикюрных ножниц и трельяжа, стоявшего у Сюзетт, когда я посещал ее апартаменты в Бейсуотер, у. 2. — А ты, как я предполагаю, — сказал я, решив, что атака — лучший способ защиты, хотя ох какой нудный, — ты думаешь, что выглядишь заманчиво в этом костюме ужасных мужиков, который ты купил на летней распродаже списанной одежды на ближайшей толкучке? — Он мужской, — ответил он, — и респектабельный. Я уставился на его свободно висящее одеяние цвета дерьма. "Ха! " — это было все, что я сказал. — К тому же, — продолжал он, — я не потратил на него денег, это мой мобилизационный костюм. О небо, он так и выглядел — да! — Когда ты закончишь свою военную службу, — сказал бедный крестьянин с гнусной ухмылкой, сломавшей его лицо пополам, — тебе выдадут такой же, вот увидишь. И заодно приличную прическу хоть раз в жизни. Я уставился на дурня. — Верно, — сказал я, — мне жаль тебя. Каким-то образом ты пропустил подростковое веселье, и, похоже, ты никогда не был молодым. Пытаться объяснить тебе простейшие факты жизни — просто потеря драгоценного дыхания, тем не менее, постарайся врубиться в следующее, если твой мини-мозг микроба способен на это. Нет почести и славы в том, чтобы нести воинскую службу, если она принудительна. Если добровольно, то да, наверное, на не тогда, когда тебя посылают. — Война, — сказал Вернон, — была лучшим достижением Британии. — Какая война? Ты имеешь в виду Кипр? Или Суэцкий канал? Или Корею? — Нет, дурак. Я имею в виду настоящую войну, ты что, не помнишь? — Так, Вернон, — сказал я, — пожалуйста, поверь мне, я рад, что не помню. Все старики вроде тебя пытаются не забыть ее, потому что каждый раз, когда я открываю газету или покупаю себе дешевое чтиво, или иду в Одеон, я слышу только «война, война, война». Вам, пенсионерам, кажется, действительно, очень нравится эта давняя борьба. — Ты просто невежа, — сказал Вернон. — Ну, если это так, Вернон, то меня это нисколько не расстраивает. И я скажу тебе: я не лох, и я не чуточки не желаю играть в солдатиков по таким простым причинам, — во-первых, потому что большие армии уже перестали быть необходимостью из-за атомного оружия, и, во-вторых, никто не сможет заставить меня делать то, чего я не хочу или шантажировать меня при помощи этой старой сумасшедшей смеси из угроз и поздравлений, на которую попадаются такие лохи, как ты. Ты — прирожденный заполнитель анкет, плательщик налогов и чистильщик пушек…. Ну, парень, просто посмотри на себя в зеркало.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля