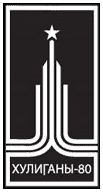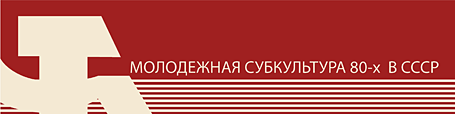

Колин МАКИННЕСС.Абсолютные новички
|
Я вытащил из комода паяльную лампу, потому что всегда лучше иметь при себе такое оружие, которое выглядит вполне невинно, и я достал свою карточку донора крови (ее я получил, когда начал сдавать кровь пинтами, после того, как Д-р Ф. вылечил меня), потому что это всегда производило впечатление на представителей закона — не очень сильно, а лишь чуть-чуть — если они хватают тебя и выворачивают карманы, а также я засунул в задний карман свой новенький паспорт, не знаю зачем, просто на счастье, я так думаю. Потом я надел свой ремень с пряжкой и куртку на молнии, заменяющую саблю, если размахивать ею одной рукой, и спустился по лестнице, где я наткнулся на Клевого, также спускавшегося вниз. — Ты тоже собрался подышать ночным воздухом? — спросил я. — Ага. Посмотрю, что творится вокруг… — Будь клевым, Клевый. — О, конечно, белый мальчик. Я остановил парня перед дверью, взял его за обе руки, посмотрел на него и сказал: — Я надеюсь, это не сделает тебя угрюмым, мужик. Он улыбнулся (что с ним случается довольно редко). — О, нет…, — сказал он. Мы не станем угрюмыми, мы должны протестовать. А ты?… Я полагаю, не очень хорошо, когда ты чувствуешь, что твое племя не право? — Спасибо, Клевый, — сказал я. Готов спорить, что ты — единственный Пик в Неаполе, кто подумал о нас. Я похлопал его по руке, и мы оба вышли во тьму, и на этот раз я решил не пользоваться своей Веспой. На тротуаре, не говоря ни слова обо всем этом, мы пожали друг другу руки, и пошли в разные стороны. Без сомнения, ночь любит зловещие выходки: вообще-то, я не считаю ночь зловещей, я обожаю ее, но она ставит приманку для всех чудовищ, заставляя выходить их наружу. Я дошел до станции Вестберн Парк и доехал по живописной железной дороге до Буша. Поезд был наполнен туристами с Запада, выскакивавших из вагона на разных станциях, чтобы разглядеть все более пристально. Между остановками с высоты можно было видеть огонь и пожарных, и перед глазами стремительно проносились толпящиеся люди, патрульные машины закона, разъезжавшие вокруг в поисках добычи, либо припаркованные, набитые ковбоями, ожидающими боя, словно патроны в обойме. А когда поезд остановился в Лэдброуке и Латимере, можно было слышать громкоговорители, из которых несся какой-то резкий и бессмысленный рев, как в увеселительных садах Баттерси. И на протяжении всего пути иссиня-черную тьму разрывали внезапные вспышки и проблески ослепляющего света. Но, попав в Буш, я был ошарашен. Потому что, когда я перебрался через Грин, в этот среднеклассовый квартал рядом с нашим районом — там все было мирно, тихо, спокойно, так-как-было-раньше. Поверьте! На площади двух квадратный миль в Неаполе кровь и гром, а вне ее пределов — прямо через дорогу, будто это какая-то государственная граница, — вы снова попадаете в мир Миссис Дейл, в мир "Чем я занимаюсь? ", в зеленую и приятную страну Англию. Неаполь был словно тюрьма или концентрационный лагерь: внутри — печальные убийства, снаружи — автобусы, вечерние газеты и спешка домой к своим сосискам, картофельному пюре и чаю. Возле телетеатра я купил вечерний выпуск. Они раздували все эти события — ни одна газета не устоит перед большими заголовками — но так же и пытались не придавать этому особого значения. Реакция в Африке и на Карибских о-вах, говорилось, была не благосклонной, но очень преувеличенной. Было немного злорадства в Южной Африке и юге США, что, в столь сложной ситуации необходимо порицать. Главное, что надо помнить: это то, что ни в Ноттингеме — и не в Ноттинг Хилле, пока что — не было потеряно ни одной человеческой жизни. Тем временем парень из Скотланд-ярда, опубликовал сообщение, чтобы остудить интерес зевак. Я выбросил эту штуку. Закон никогда не хочет, чтобы вы смотрели на то, с чем он не может справиться. Потом я вернулся в свой район. Я шел по пустой улице, которая была освещена, как и большинство из них, фонарями, поставленными сюда во времена Королевы Боадиции, когда я увидел трех цветных чуваков, идущих мне навстречу и державшихся друг друга. Я огляделся, потому что думал, что их преследуют, но нет, поэтому я подошел к ним и сказал "Привет, парни, как дела? " — и увидел в руке у одного из них гаечный ключ, кажется (в любом случае, что-то железное), и они двинулись на меня. Боже, каким же галопом я помчался! А эти три сына Африки гнались за мной и шипели! Я нырнул в бассейн света, пролез между какими-то машинами, и врезался посредине дороги прямо в М-ра Уиза. "Прекратить! ", — крикнул он, и цветные чуваки увидели, что у меня есть союзник, и растаяли, как лучи заходящего солнца. "Ну и ну! ", — кричал я, хлопая старину Уиза, будто выбивая ковер. "Ну и рад же я видеть твое гнусное лицо! Где ты, черт возьми, был, мужик, я тебя искал! " Уизард взял меня за руку и сказал: «Спокойнее, малыш», и, пройдя пару домов, мы оказались на каком-то огромном собрании. Все это было устроено чуваками из Союза Защиты Белых, распространявшими в толпе листовки. Оратор на передвижной трибуне выглядел довольно обычно — т. е. такой тип, которого трудно описать, если бы вас попросили об этом позже — правда, в тот момент в нем пылало и билось некое сумасшедшее и электрическое безумие. Он не обращался конкретно к кому-то — к какому-либо человеческому существу, даже совсем пропащему — он кричал в пространство, в ночь, обращаясь к какому-то духу, к какому-то колдуну за помощью и благословением. И на него, освещенного желтым сиянием, снизу-вверх смотрели защищаемые им белые лица, превратившиеся, благодаря муниципальным фонарям над ними, в нечто грязное, фиолетово-серое. Я пихнул Уиза локтем. — Он сбрендил, — сказал я. Уиз не отвечал. — Я говорю, он чокнутый, парень! — проорал я, поверх шума микрофона. Потом я посмотрел на Уизарда. И на лице моего друга, пока он смотрел на этого оратора, я увидел выражение, вызвавшее у меня дрожь. Потому что малыш Уиз, такой подтянутый и опрятный и нарядный и опасный, чуть улыбался так, чтобы зубы были еле видны, и все его гибкое маленькое тело было напряжено, и что-то Бог знает откуда появилось в его взгляде, и он поднялся на цыпочки, резко вскинул руки вверх, и выкрикнул, провизжал так, будто это были его последние слова: "Англия должна быть белой! " Я стоял некоторое время, а толпа подхватила эти слова. Потом я схватил Уиза за шиворот изо всех своих сил, тряхнул и ударил его, вложив в кулак всю свою жизнь, и он упал. Затем я быстро огляделся, прикинул, что к чему, и побежал. К счастью, я знаю Неаполь, и я удрал гораздо легче, чем надеялся. Возле бульвара Корнуолл я забежал во двор и отдышался. Потом я пересек рощицу Лэдброук и пошел по улице, стараясь держаться направления железной дороги. Впереди, на освещенном участке, я увидел забавную фигуру: это был африканский торговец, хорошо известный во всем квартале, длинный тощий старый тип, владеющий небольшим магазином, специализирующимся на импортных продуктах, которые Пики применяют в своей кухне. Обычно он носит древний костюм и потрепанный Энтони Иден, но сегодня он был при всех своих регалиях — я хочу сказать, он был в африканских робах, и стоял он в них возле своего дома, совершенно один, ожидая чего-то. Я подошел к нему, сказал «Привет» и спросил, в чем дело. Он сказал, что это его дом, внутри — его жена и дети, и он никому не хочет причинять боль, но если кто-то вздумает нанести им вред, сначала им придется перекинуться парой словечек с ним. Он стоял на этом месте весь день, и будет стоять и дальше, сказал он, пока эти хулиганы поблизости. Мне понравилось, как этот старый парень произнес слово «хулиганы». Оно выскочило прямо у него из живота, так, будто он выблевывал какую-то противную массу. Я сказал ему, «Так держать, папаша», и мне понравились его одежды — как только у меня появится шанс, я поеду в Африку, посмотрю на всех этих чуваков в робах, как в кинопередачах про путешествия — и я продолжил путь. Вскоре я увидел огни. Поэтому я поспешил, и наткнулся на другое скопление народа, и оказалось, что все эти люди толпились возле клуба Санта Лючия, Вест-индской обдираловки, не более очаровательный, чем общественный туалет. Здесь кружило несколько сотен; а что добавляло веселья всей этой толчее, так это присутствие кино — и ТВ — камер, с дуговыми лампами, светом и фотовспышками, как будто снималась какая-то массовая сцена для кинофильма. И управлял всем этим, стоя на крыше машины с микрофоном, — да, вы отгадали — Зови-Меня-Приятелем. Это, безусловно, был главный вечер всей его карьеры — сенсационные новости, наш бесстрашный репортер прямо там, на линии огня! А что касается Тедов и хулиганов, ну, они могут учуять камеру за милю, и вряд ли найдется нечто более любимое ими, чем шанс полюбоваться на свои идиотские лица на следующее утро в таблоидах, так что это тоже была для них огромная возможность. "Дитя! " — проорал кто-то и я оглянулся. Это оказалась экс-Деб-Прошлого-Года, на заднем сидении вишневого Бентли. Я пробрался к ней через толпу, и нашел ее в компании Горлопанов Генри, которые, как я понял, сомневались, что все это хоть сколько либо забавно. А что касается экс-Деб, то она высунулась из своей машины и сказала: — Вся эта толпа — куча дрянных ублюдков. — Кому ты это говоришь! — сказал я. — А что это за место? — спросила она, махая рукой в сторону клуба Санта Лючия. — Местный притон. Не хочешь заглянуть? — спросил я — немного саркастически, должен признаться, потому что если орущая толпа вокруг по какой-то причине не уроет вас, Пики внутри, если они там есть, обязательно это сделают, если вы попытаетесь зайти. — Конечно! — вскрикнула она слишком громко, даже для меня. — Я с удовольствием потанцую с каким-нибудь африканцем, они лучшие танцоры в мире! И она пригласила меня внутрь, и я подумал "О, ну что ж! ", и Горлопан за рулем подвел машину ко входу, а все, увидев экс-Деб и Горлопанов, подумали, наверное, что это какой-то номер из телевизионной программы. Экс-Деб и я вышли, за нами увязались двое Горлопанов, и мы спустились по ступенькам в подвал, и экс-Деб постучала двумя руками в закрытую дверь. Должен сказать, что я окаменел, но также был на грани истерики, ибо теперь все это казалось мне довольно смешным, поэтому мне в голову пришла идея, я подошел к мусорному баку, забрался на пьедестал и, улучив момент, проорал сквозь вентиляционное окошко: "Клевый, если ты там, впусти нас, мы клиенты! ". Потом мы еще немного подождали возле двери, открылось смотровое отверстие, загремели болты и прочие железные изделия, и дверь приоткрылась на восемь инчей, и мы проскользнули внутрь; но не Горлопаны, им вход преградили. В клубе Санта Лючия будто проходило выступление старинных комедиантов под эгидой «Шоу-должно-продолжаться». Потому что никто не сидел в углу, съежившись от страха, и никто не устраивал баррикады, наоборот, все танцевали под звуки из джук-бокса и сидели на столах, с двойными порциями рома в стаканах: Вест-Индийцы, несколько американских оккупантов и небольшая стайка храбрых курочек. И все это, не смотря на тот, другой шум снаружи, пугавший их, надеюсь, меньше, чем меня. Девятифутовый солдафон разлучил меня с экс-Деб, и я сел отдышаться. И в этот момент из женского туалета вышла Crepe Suzette. Целую минуту меня будто током трясло. Потом я вскочил, подбежал и схватил ее. Ее тоже тряхнуло током, но лишь на секунду, и мы обнимались, словно два русских медведя, а потом сели на два стула, стоявших рядом. — Сумасшедшая девчонка! — заорал я. — Рассказывай скорее! Какого черта … Она поцеловала меня и сказала: — Я приехала неделю назад. — И ты не дала мне знать об этом? Стерва! — Когда я услышала об этом, сразу приехала. Я посмотрел на нее. — Чтобы быть рядом с парнями?! — Да. Я поцеловал ее. — Вот это да, Сюз, ты сошла с ума! — воскликнул я. — Смелая девочка! Хорошая киска! Ну, ты теперь моя, не их. Она покачала головой. — Нет, пока все это происходит. — Ну, это же не навсегда, дорогуша, — сказал я ей. — Но пока это не закончилось, я остаюсь здесь. — Теперь, когда с этим разобрались, у меня есть право выбора. Мы засмеялись, словно две гиены, и я сходил за напитками, и боковое окно разбилось, и влетела бензиновая бомба, и покатилась по полу мимо танцующих пар, и взорвалась, и все электричество отключилось, и раздались крики.. Потом, на лестнице снаружи, раздался грохот, будто раскаты грома, и стук в дверь, и, благодаря вспышке от бомбы, можно было видеть блюстителей закона и пожарных, вломившихся в кабак, казалось, что они пришли не на помощь кому-либо, а для того, чтобы захватить позиции противника. Хватали различных типов, а все остальные рассыпались в разных направлениях, и я потерял Сюз и экс-Деб, так что я последовал за Пиком в туалет, и мы вылезли из окна, попали в темный сад и перелезли через забор. Мы стояли там с этим Пиком, тяжело дыша. И я сказал ему: "Ты о'кей, белый мусор? ", а он сказал мне: «О'кей, черномазый». И это оказался Клевый. Мы оба засмеялись — Ха! Ха! Ха! — потом прокрались к чьему-то черному входу, открыли дверь и на цыпочках прошли в коридор к парадному выходу, и вышли из дома по ступеням, на которых лежал какой-то парень и рычал, и я посветил на него фонарем и увидел кровь, и кровь принадлежала Эду Теду. — Ну, что же! — сказал М-р Клевый. — Да, — сказал я, и мы просто оставили его там, и пошли по улице. А там, там шла заранее подготовленная битва. Теды окружили полицейских возле железной дороги — ну, я предполагаю, что их должны были окружить — а остальные боролись с Пиками и друг с другом, с бритвами и колами и велосипедными цепями и железными прутами и даже иногда с голыми руками. И вскоре меня эта штука засосала, и я услышал крик: "Ниггерская шлюха! ", и сквозь тела и руки я увидел Сюз, ее схватили какие-то девки и какие-то животные, и мазали ей лицо грязью, и орали, тот ли это цвет, что ей нравится, и если это тот, то она его получила. И я тоже заорал всеми своими легкими, и начал драться, словно маньяк, и никак не мог добраться до нее, и меня тут же сильно ударили, и земля поплыла у меня под ногами, и я начал блевать. Потом кто-то меня поднял, и это оказался Горлопан Генри, и он сказал, "Ты в порядке, старик? ". А я ответил, "Нет, старина, и не мог бы ты, ради Христа, постараться забрать оттуда мою девчонку? ". Ну, они так и сделали. Еще несколько Горлопанов и экс-Деб втащили ее в вишневый автомобиль, и я тоже взгромоздился туда, и Горлопан за рулем спросил, куда теперь, и я ответил, "Домой! ". Я старался не пускать их к себе в квартиру, когда мы добрались до дома, потому что они, и в особенности экс-Деб, очень хотели помочь Сюз, но я сказал, большое спасибо, но не могли бы вы пойти на хуй, пожалуйста, и оставить нас одних, что они и сделали, и мы поднялись наверх, шатаясь, рука об руку, падая друг на друга, и, когда мы вошли ко мне, там сидел, держа в руках свою ужасную шляпу, мой полубрат Верн. "Где ты был?! ", — воскликнул он. Я не ответил, и мы оба шлепнулись на пол. Верн подошел, посмотрел на нас и сказал: — Твой Папаша почти отдал концы. Ма сказала, что ты должен немедленно приехать. — Через минуту, Верн, — сказал я. Потом я поцеловал Сюзетт, блеванул, в глазах потемнело, и все такое. — Ты должен поехать, — говорил Верн, тряся меня за плечо. — Через минуту, Жюль, — сказал я. — Чеши отсюда, парень, я приеду так быстро, как только смогу. Убирайся отсюда сейчас же, — и я вытолкал его за дверь. Потом я вернулся к Сюз, и сказал: — Лучше бы тебя умыть. Она встала, посмотрела на себя в зеркало и сказала: — Нет, мне так нравится. Мне это идет. — Черт возьми, нет, — сказал я, пошел, взял полотенце, кувшин с водой и всякие другие штуки, вымыл ее лицо, и одновременно целовал, и в моей квартире в Неаполе мы, наконец, сделали это, но, честно говоря, нельзя сказать, что это было сексуально — это была просто любовь. Потом я принес немного еды, и мы сели на кровати, перекусывая, как какая-то старая женатая пара, и я прекратил жевать, уставился на нее и сказал: — Ты бешеная девчонка. Она бросила на меня грозный взгляд. — Ага, — сказал я. — А дальше будут свадебные колокольчики. — Не в ближайшие три года, — сказала она. — Сначала развод. — О, к черту три года! — воскликнул я, схватил ее левую руку, снял кольцо Хенли, купленное на Бонд Стрит, подошел к окну и вышвырнул его в Неаполь. — Нашедшему никакого вознаграждения! — крикнул я во всю глотку ранней заре. Потом я повернулся. — А что с Уизом? — спросил я. — Что заставляет людей предавать друг друга? — Некоторым это нравится, — сказала она. — Получают от этого большое удовольствие, — и она продолжила есть. — Ну, — сказал я, — старина Уиз должен уладить это с Сатаной, когда встретит его. — Ты веришь во все это? — спросила она, тоже вставая. — Несомненно, я верю в Сатану после сегодняшнего вечера, — сказал я ей. — Новый Неаполитанский Дятел. Надеюсь, Пики разберутся с ним. — Или ты, — сказала она. — Нет, не я, Сюз, я сваливаю из Неаполя, и ты вместе со мной. Она опять посмотрела на меня. — Мы уезжаем на наш медовый месяц, — сказал я, — завтра. — Нет, то есть, уже сегодня. Она покачала головой. — Я отсюда не уеду, — сказала она, и к ней вернулся ее свинячий взгляд, — пока все не закончится. Я схватил ее за волосы и потряс ее голову. — Мы поговорим об этом позже, — сказал я ей, — сейчас мне нужно ехать к Папаше. — Сейчас? — Да. Ложись спать, цыпка, я вернусь и принесу тебе молока. Я не могу передать, что я почувствовал, видя Сюз, лежащей на моей постели, где я так часто думал о ней, и я бегом вернулся к ней, и целовал до тех пор, пока она не начала сопротивляться, потом вылетел во двор и в раннее утро. Но во дворе нет Веспы! "Удачи им! ", — крикнул я, и пошел пешком по дороге. И я подумал, что мне надо пойти к Воротам, чтобы нанять такси, и я, естественно, не собирался возвращаться в зону войны, просить каких-то водителей подбросить меня. Так что я шел пешком, а на улицах было очень тихо, как бывает тихо после звука разбитого секла, и на зеленые деревья снова падал свет, и они выглядели свежими и вечно цветущими. И тут какой-то тип попытался меня переехать. Я развернулся, готовый убить этого чувака, хоть я и был слаб, но это оказался не кто иной, как Микки Пондорозо, за рулем своего понтового Понтиака. — Микки, — воскликнул я. — Buenas Diaz! Какого черта ты делаешь в этом дурдоме? Все еще изучаешь положение дел? Ну, хотите — верьте, хотите — нет, чувак-дипломат именно этим и занимался: путешествовал по району, совал свой нос всюду, и, в конце концов, провел два часа в отделении, потому что возникли маленькие вопросы по поводу его машины и, поверите ли вы этому, по поводу того, было ли его лицо негроидным или нет, и это взбесило Латиноамериканца, потому что его бабушка как раз была Пикой, и он очень гордился ей и ее расой, и кучи его двоюродных братьев играют за национальную футбольную сборную, которая выиграла в этом, 1958 году Кубок, и в следующий раз выиграет, и — Боже! — в следующий тоже. Я прервал типа на полуслове. — Микки П., — сказал я, — ты нанят! Ты везешь меня в Пимлико, пожалуйста, это очень важно. По пути я спросил у Микки, в какой из тех стран, где он побывал, меньше всего этих проблем с цветом, и он сразу же ответил, в Бразилии. И я сказал, это мне подходит, как только достану бабки, уеду навсегда в Бразилию со своей пташкой. Потому что в этот момент, должен вам сказать, я разлюбил Англию. И даже Лондон, который я любил, как свою мать, в некотором роде. Если спросите меня, вся эта чертова группа островов, могла погрузиться на морское дно, и все, чего я хотел — не ступать по этой земле больше никогда, уехать куда— нибудь и прижиться там. Микки не одобрил все это, хотя мне казалось, что мои слова польстят ему. Он сказал: «Однажды Римлянин — Римлянин навеки», и что в каждой стране есть как кошмары, так и блага — именно это слово он и использовал. Я сказал, что случившееся в Неаполе может повториться когда-нибудь снова. Потому что если ты нанес вред какому-то человеку или группе людей, или целой расе, особенно, если они слабы, ты обязательно вернешься и снова сделаешь это, и здесь ничего изменить нельзя. А он сказал, неужели я не понимаю, что такие вещи могут произойти где угодно? Я ответил на это, что был не столько против того, что это происходит, сколько против того, что со времени происшествий в Ноттингеме, более чем недельной давности, никто не оказал этому сопротивления: по мнению правительства и высоких типов-чиновников, всех этих беспорядков просто-напросто не было, или были, но в какой-то другой стране. Ну, что же, он доставил меня до двери, и я сказал, прощай, еще раз спасибо за Веспу, не знаю, что бы я без нее делал, и он удрал, словно Фанджо, куда бы то ни было. Дверь сразу же открылась, открыла ее Ма, и я сразу понял, что Папаша умер. "Где он? ", спросил я, и она повела меня вверх по лестнице. Ма ничего не говорила до тех пор, пока мы не зашли в комнату. «Он все спрашивал, где ты, и мне пришлось сказать ему, что тебя нет». Не знаю, видели ли вы когда-нибудь труп. Кстати, сам я видел его впервые, и это не производило на самом деле никакого впечатления, кроме всей этой штуки, связанной со смертью и умиранием. Я надеюсь, что это не непочтительно: но так как я был уверен в том, что, когда я приеду сюда, Папаша будет мертв, у меня не было каких-то особых чувств к тому, что я увидел на кровати. Все, что я почувствовал, вообще-то, это то, что я стал гораздо старше. Я почувствовал, что с его смертью я поднялся вверх на пару ступенек к чему-то. Старая Ма теперь плакала. Я хорошенько посмотрел на нее, но мне ее слезы показались совершенно искренними. В конце концов, они долгое время были вместе, и я осмелюсь сказать, что время самом собой создает что-то, даже если любви нет и в помине. Я поцеловал старушку, немного погладил по плечу, и повел ее наверх, и спросил, что с организацией похорон. И она сказала, что знает, что надо делать. Потом я извинился перед ней и сказал, что я не приду на похороны. Ей это вовсе не понравилось, и она спросила у меня, почему? Я сказал, что помню Папашу с тех пор, как я был ребенком, и я совсем не интересуюсь трупами, и если она хочет цветы и всякие катафалки, это ее личное дело. Она просто уставилась на меня и сказала, что никогда меня не понимала, а потом сказала вещь, немного пошатнувшую мою решительность, а именно думал ли я о том, чего бы хотел сам Папаша? Так что я сказал, что подумаю над этим и дам ей знать, а в данный момент — пока, я отчаливаю. Она просто снова посмотрела на меня, ничего не сказала и ушла в свою гостиную, закрыв за собой дверь. Но на выходе меня задержал старина Верн, и сказал, что хотел бы поговорить со мной наедине. Я сказал, что очень устал, но он затолкал меня туда, где раньше была моя темная комната, закрыл дверь на ключ и сказал, «Ты должен услышать тайну своего отца». Я спросил у него, какую.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля