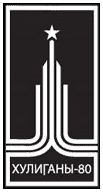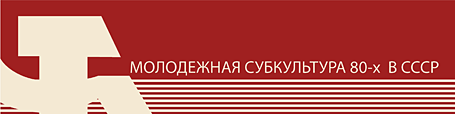

Колин МАКИННЕСС.Абсолютные новички
|
ПРЕДСТАВЬТЕ МЕНЯ по колено в грязи на берегу мелкой речки, пытающегося сфотографировать Хоплайта и экс-Деб. на выброшенной на берег барже. «Не нервируй нас», говорил Хоплайт, и экс-Деб-Прошлого-Года повторяла «Давай живее». Именно так все и было. События прошлого месяца убедили меня в том, что единственный путь, дававший мне надежду быстро сколотить капиталец, был фото-рэкет крупного масштаба, — т. е. сделать несколько снимков, оказавшихся бы настолько сенсационными, что я прославился бы в газетах и журналах, и даже (это было моей тайной мечтой) умудрился бы устроить где-нибудь фешенебельную выставку, куда все мои разнообразные знакомые привели бы своих богатых друзей. Если все хорошенько обдумать, чем я занимаюсь дни напролет, то, в конце концов, становится ясно, что это вовсе не столь дикая идея, как кажется. Ведь детки в наше время делают огромные деньги, как я уже объяснял, а что касается фотографии — сейчас стало очень модным относиться к фотографам как к кинозвездам. Причина этому, я подозреваю, в том, что стервятники культуры получают от фотографий весь этот эстетский кайф, хотя понять эти снимки чертовски легко, — а также, добавлю, и произвести на свет. Но, как и во всем остальном, мне нужно было найти свой подход, свою точку зрения, свой ракурс. И после долгих раздумий я выработал план, и, насколько я видел, он не мог потерпеть крах. Все очень просто — развернуть историю вокруг двух современных персонажей, интересных всем, — т. е. тинэйджера и дебютантки. Врубаетесь? Тинэйджер из бедной семьи — Прекрасный Принц наоборот — неожиданно сталкивается с Бедной Маленькой Богатой Девочкой. Папаша и Папка не одобряют (как и Мамаша и Мамка), поэтому Тинэйджер Том и Диана Дебютантка встречаются тайно в различных местах столицы (подобранные мной самим, руководствуясь критерием безумной красочности), и вся коллекция, будучи законченной, отобразит застывшую современную жизнь. Главной сложностью был подбор моделей на две главные роли, ибо хоть я и знаком с кучей тинэйджеров и одной-двумя дебютантками, мне были нужны те, кому я мог бы доверить секрет, и кто мог бы уделить мне много времени, и не требовал бы при этом моментальной оплаты, и, что самое главное, выглядел бы сенсационно, запечатленный для потомков моим Роллейфлексом. Экс-Деб я взял на главную женскую роль по вполне очевидным причинам, так как ее внешность, на мой взгляд, правда, ничего не стоящая, просто великолепна, — то есть она настолько чудесна, что совершенно нереальна, — но главное в том, примет ли она мое предложение? Ну что ж, благодаря Дину Свифту, она приняла. Потому что экс-Деб, хоть ее и нельзя назвать наркоманкой, залезает на иглу, когда ей надоедает быть красивой, а Дин, когда я свел их, мог помочь ей в смысле доставки товара. Если вы собираетесь сказать мне, что неэтично приглашать ее таким путем, я с удовольствием соглашусь с вами, но пожалуйста, поймите, что вся эта ситуация с Сюз требовала безотлагательного решения. Что касается парня, очевидным выбором был Уиз — или кто угодно в рамках этого возраста, но не Великолепный Хоплайт. Но Уиз, к сожалению, в этот момент был не самым моим лучшим другом, поэтому я выбрал Хопа. Причиной послужило то, что, хоть Хоплайт вовсе и не считает себя настоящим тинэйджером, и к тому же Прекрасным Принцем, он экстремально красив, сладок и фотогеничен, и у него всегда куча свободного времени, лежащая тяжкой ношей на его плечах. Эта сделка была довольно паршивенькой, потому что я отклонил с его стороны то, что в судах называют определенного рода предложением, и уладил с ним, пообещав взамен шикарный альбом с фотографиями Хопа в классических позах, который он сможет предложить своему Американо в качестве подарка на день рождения. Если вы когда-нибудь попробуете собрать в одном месте таких колоритных персонажей, как Хоплайт и экс-Деб, несколько раз и на продолжительное время, вы поймете, с чем мне пришлось столкнуться за последние две недели. В частности, чтобы передать настоящую атмосферу Лондона, мне пришлось залезть вместе с ними на танкер в доках Сюррея, в террариум в зоопарке, потом в карету скорой помощи и на катафалк (это было не так сложно, как кажется), а также внутрь конюшен, где игрушечные солдатики нашей нации ухаживают за своими зверьми — этот день я не забуду никогда. — Нет, нет, нет, нет, — проорал я с берега, потому что экс-Деб и Хоплайт просто повернулись ко мне спинами. — Что значит «нет»? — прокричала моя героиня, теребя свои кудри и принимая отработанную позу, в которой она предстает на всех своих выдающихся фотографиях. — Ты и впрямь так суетишься, — опять сказал Хоплайт, вставая, чтобы привести в порядок свои брюки, будто из рекламы "Вы заросли сорняками? Делайте, как я! " Я подошел поближе и воззвал к их высоким натурам. — Послушайте, любители! — прокричал я. — Я вам плачу за ваши анфасы — те части тела, где у вас есть хоть какое-то выражение. — Он нам платит, этот ребенок, — сказала главная женская роль. — Если тебе нужно выражение…, — добавил Хоплайт. — К тому же, ты прервал милую беседу. Я знал, о чем она была. Хоп всегда готов слушать о сделках на рынке дебютанток, и без конца болтал об этом с главной актрисой, особенно когда я просил его сделать героическое или изъеденное горем выражение лица. — Еще один раз, — умолял я, — и, пожалуйста, вспомните сценарий. Ситуация такая — Лорд Майр собирается выпороть поедателя сердца своей дочки, и она сообщает ему вести о том, что папочка со своей командой уже в пути. — Как мило, — сказал Хоплайт. — В наше время выпоротыми оказываются папочки, — сказала экс-Деб. В довершение представьте себе всю сцену. Там, на причале, стояла пузатая машина экс-Деб и Веспа М. Пондорозо (да, Микки П. доставил обещанный товар), и кучка наблюдателей с пригласительными билетами, а на мосту, над нами, суетились граждане Сити. Мужчины были похожи на деловых школьников со своими портфелями и зонтиками, женщины бежали на работу так быстро, будто как только они доберутся до нее, их отпустят домой, а по течению плыли какие-то хитрецы, как водный цирк с Пикадилли, а в болоте стоял я и этот темпераментный дуэт. На самом деле было очень сложно сконцентрироваться, потому что вся эта панорама была такой классной, а солнце отражалось от воды стеклянными треугольниками, лето было в самом разгаре, превращая мысль о тех далеких, коротких, темных холодных днях просто в кошмар. Так что мы решили сделать паузу для dejeuner. И мы отправились в кафе на набережной Темзы по никогда раньше не виданной мной улице, хотя прибережные запутанные переулки я выучил наизусть, как вены на своих руках, но в конце концов, а кто знает Лондон? Мы нашли кафе, следуя за какими-то речными тружениками, и, когда мы вошли туда, это вызвало небольшую сенсацию (присвистывания, взгляды, грязные комментарии), потому что, конечно же, Хоп и Деб в любом окружении выглядят как экзотический спектакль, тем более здесь. Но они оба отнеслись к этой ситуации спокойно, их не раздражали неморгающие взоры, и они, несмотря на всю свою изысканность, ни капельки не были снобами — я имею в виду социально — это одна из причин, почему они мне нравятся. Так что Деб, в перерыве между своей соленой говядиной, брюквой и клецками болтала со всеми, кто заговаривал с ней, и даже станцевала танго с одним опоясанным здоровяком, когда кто-то бросил монету в джук-бокс. А Великолепный, окруженный гигантскими потными работягами, мастерски заимствовал соль, перец и многочисленные соусы со всех столов с присущим ему остроумием, покуда один исключительно кислый постоялец не поинтересовался у него, как идет торговля. Все немного притихли, и Великолепный спросил у постояльца, почему он спрашивает? — Я подумал, что понравился тебе, — сказал баламут, оглядываясь в ожидании аплодисментов, так им и не полученных. — Ты? — сказал Хоплайт, уставившись на монстра. — Именно это я и имел в виду, — ответил кот. — Ну, хорошо, — сказал Хоплайт настолько громко, чтобы было слышно всем. — Я на самом деле так не думаю, нет, я не думаю, что ты бы мне подошел. Но если ты бы привел сюда свою жену, или бабушку, или сестру, я осмелюсь сказать, что ты увидишь — они предпочтут даже меня чему-либо, что они получили от тебя. — Предпочтут пидора? — спросил чувак. Хоплайт улыбнулся всем в помещении в поисках поддержки. — Неужели я первый, кого ты видишь? — спросил он у типа. — Тогда тебе нужно быстро пойти домой и рассказать матери, что ты видел одного, пока она поменяет тебе штаны. Это вызвало смех, кот ничего не смог ответить, и все сменили тему, ибо говорите что хотите, но, хоть я и знаю, что английские рабочие грубы до предела, они могут быть очень воспитанными, когда чувствуют нужду в этом, в смысле поведения. Морской волк в бейсболке и с татуировкой на голой груди, гласившей «Молись за Меня, Мать», сказал экс-Деб., что его судно еженедельно ходит в Скандинавию, и почему бы ей не прокатиться с ним — все на судне были бы польщены, он заверил ее. Экс-Деб. сказала, что обязательно подумает над этим предложением (и я уверен, что сказала она это серьезно), а Хоп спросил, может ли он записаться в матросы для такой поездки, и все морские чуваки сказали, что ему больше пойдет кочегаром. И вся эта болтовня о море и мореходстве, и о кораблях, уходящих из Лондона, навела меня на мысли о том, что, черт, это просто смешно — я, почти девятнадцатилетний, никогда не покидал город, где я родился, и я принял прямо там решение, что первым делом достану себе новый паспорт. Когда помещение немного опустело, мы решили перебраться в другое место, и я предложил чайную террасу открытого бассейна, и чтобы Хоп объяснил дебютантам метод искусственного дыхания. Я видел, что Хоплайт, несмотря на свою маленькую победу, был немного расстроен происшедшим ранее, поэтому я сказал: — Это пустяки, Хоп, маленькие люди живут в маленьких мирах. — Правда? — сказал Хоплайт. — Честно говоря, — откликнулась экс-Деб., — и я могу ошибаться, потому что у меня нет никаких моральных качеств — или, по крайней мере, так мне говорят все брошенные мной мужики, — я думаю, что эта игра в разделение всех, кого ты видишь, на определенные сексуальные категории — просто полный абсурд. — Обуза, что ни говори, — предложил я. — Нет, просто абсурд. Я хочу сказать, — продолжила экс-Деб., вороша грациозными пальцами свои роскошные кудри, — если целая жизнь каждого, двадцать четыре часа в сутки, снималась бы на пленку, остался ли бы хоть один нормальный человек? — Я бы им не был, это точно, — подчеркнул Хоплайт. — Ни ты, дорогуша, ни кто-либо другой, — сказала экс-Деб. — То есть, где начинается нормальность и где она кончается? Я бы рассказала тебе про одного-двух нормальных мужчин, если бы была склонна к этому, — добавила она. Хоплайт учтиво принял сигарету с близлежащего столика. — Мир, где создаются заповеди и законы, — сказал он всем нам, — находится слишком высоко над моей бедной детской головой. Но все, что я хочу знать, это вот что: есть ли другой закон в Англии, который нарушают еженощно тысячи счастливых индивидуумов, и никто ничего не делает с этим? То есть, если бы закон знал бы, что тысячи преступлений другого рода совершаются лицами, чьи адреса, имена и др. им известны, неужели они не приступили бы к жестким мерам? Но в нашем случае они отлично знают, что происходит — кто, в конце концов, не знает? Об этом известно все, и это такая скука — за исключением убогих скоплений в парках и классических маневров с мальчиками из хора, против которых искренне выступит любая уважающая себя сука. Игнорируется закон, а чтобы придать ему силу, было затрачено немало денег. — Иногда, — напомнил я Хопу, — выбираются несколько важных жертв… — О, да… одно или два дела вынимают из кучи, случайно, повторяю, но почему-то кажется, что выбирают тех, чья карьера дальше стремительно взлетает вверх, вместо того, чтобы окончательно рухнуть, и даже этот вид наказания встречается с каждым днем все реже и реже… Мы проглотили это. — Скажу тебе, Хоп, — проговорил я, если когда-нибудь закон и изменят, то 9/10 вашего голубого братства моментально завяжут с этим. Он посмотрел на меня своими хорошенькими томными глазами. — О, конечно, дитя, — сказал он. — С таким законом, как сейчас, быть педиком — постоянное занятие для стольких милых старых королев. Они полностью захвачены этим. Они чувствуют себя такими плохими мальчиками, сидя в своих тоскливых маленьких клубах и в гостиничных номерах. О, небеса, я знаком с этим! Несмотря на летнюю жару, Хоплайт содрогнулся. Экс-Деб. вытянула свои восемь извивающихся рук и поцеловала Хоплайта, что он перенес достойно. — Не сдавайся, красавец, — сказала она. — Не сдамся! — ответил Хоплайт, вставая. Я подвез его на своей Веспе, но высадил его там, откуда он не смог бы увидеть, куда я направляюсь, потому что это был глубоко личный и, в принципе, довольно странный случай, а именно — моя ежегодная прогулка с Папашей посмотреть дневной спектакль Передник На Службе Его Величества. В далекие, далекие времена, задолго до стереосистем «хай-фай» и долгоиграющих пластинок, Папаша держал в нашем кислом доме на Хэрроу роуд приспособление, сделанное им самим из старых велосипедных частей, будильников и жестянок из-под крема. На нем он проигрывал всем желающим, а таковыми являлись мы, дети, коллекцию пластинок, которые он умудрялся откуда-то доставать, на большинстве из них не было ни одной дорожки, и невозможно было различить, какой инструмент играет, не говоря уже о мелодии, если у вас не было чутких ушей и большого количества опыта. И среди этой коллекции, хранившейся в запертом железном сундуке под столом в подвале, была пачка пластинок Г. и С., мы все ее обожали и могли спеть все слова, те, что удавалось разобрать. Итак, до того, как Верн и я выросли и стали ненавидеть друг друга, и до того, как я узнал от парней, что весь этот Г. и С. слащав и старомоден, мы пели дуэтом с моим полубратом, а иногда даже старый Папаша присоединялся к нам, и получалось трио, или он пел части припева, казавшиеся нам скучными или слишком сложными для понимания. Все это происходило, надо сказать, в то время, когда Ма не было дома, или когда она была слишком занята. Этот Передник всегда был самой любимой вещью у меня и у Папаши, я думаю, в основном из-за удивительного начала — дружелюбного, милого, веселого и полностью сумасшедшего — и множество раз мы пели вместе партию Капитана и его команды, даже когда я вырос и стал мужчиной, и даже когда мы с ним идем в какие-нибудь публичные места. Так что каждый год, когда наступает день рождения Папаши, мы идем на дневной концерт, конечно, Папаша держит это в тайне, и сидим, поглощая в восторге шоколад и мороженое, окруженные другими любителями Г. и С. Даже если вы уже видели этих котов, вы ни за что не поверите, что они на самом деле существуют. Самое главное в них — это, несмотря на то, что живут они где-то в столице, вы ни разу не видели кого-нибудь, похожего на них, пока этот праздник Г. и С. не собирает их всех вместе, заставляя их выбираться из своих лежбищ. Штука в том, что хоть никого из них нельзя назвать отжитком прошлого, среди них нет ни одного, кто бы выглядел принадлежащим сегодняшнему дню. Их одежда, если быть точным, не старомодная, а домашнего производства. И хотя они ведут себя, судя по их аплодисментам, очень оживленно, выглядят они полностью нейтральными, я могу назвать это только так. Они, конечно, выглядят, хорошо, но только потому, что никто никогда не говорил им, что есть такая вещь, как «плохо». В принципе, если подумать, они почти, как мой Папаша: он отлично вписывается в эту компанию. Когда я посмотрел вокруг, то увидел, что его лицо светится и улыбается, и его губы составляют никому не слышные слова — иногда и слышные, особенно когда дело доходит до вызова на «бис» или воодушевляющих припевов. И когда Капитан пел эту великолепную мелодию со своей командой, я знал, что самая великая мечта моего старого Папаши — быть рядом с ним на этих шканцах; да, именно здесь и прямо сейчас мой бедный старик потрясающе веселился. Во время антракта я спросил у Папаши, есть ли какие-нибудь новости о Маме и Верне. — Твоя мать, — сказал он, — продолжает говорить, что хочет с тобой встретиться. — Она знает мой адрес, — сказал я. — Я думаю, что она хочет, чтобы ты пришел к ней. — Ясное дело. Ну, что ж, скажи Ма, что Главное Почтовое Управление предоставляет отличные услуги, и открытка будет стоить ей 3 пенни. — Не будь так жесток со своей Мамой, сынок. — И это говоришь ты? — Да, сынок, я. Мне не нравится, когда ты много себе позволяешь по отношению к своей матери. — Позволяю! Она дьявольски много позволяла себе по отношению к нам все эти годы! Этот небольшой спор с Папашей вспыхнул довольно неожиданно, как всегда и случается, особенно между родственниками, и я понимал, конечно, что старый бедный Папаша никогда не мог бы согласиться со мной в том, что Мама была стервой, ибо он и сам наделал множество ошибок, так что при этом он пожертвовал бы своим достоинством. Также Папаша очень любит традиции и иногда ведет себя, как отец, или очень сильно старается, и его трудно переубедить. Так что возникла пауза, и мы наблюдали за любителями Г. и С., восхищенно болтавшими вокруг нас. — А Верн? — спросил я довольно скоро. — Он нашел себе работу. — Да ладно! — В пекарне, ночами. — С этого дня я прекращаю есть хлеб. Папаша улыбнулся, и тоненькая пленка льда растаяла. — А постояльцы? — спросил я его. — Кое-что изменилось, — аккуратно сказал Папаша. — Мальтийцы уехали. У нее вместо них теперь какие— то киприоты. — Мама действительно предана Империи. Это прошло, и Папаша очень обдуманно проговорил: — Киприоты — джентльмены. Я спросил у него, почему, и он сказал: — Они не презирают тебя, как мальтийцы. По их поведению сразу видно, что они настоящие люди, а не какое-то племя. Я хотел подойти к вопросу о здоровье Папаши, но это было сложно, ибо нет человека более скрытного, чем мой папка, и к тому же, как я мог сделать это так, чтобы он не догадался, что я опасаюсь? — А как ты сам, Па? — это было все, что я смог придумать. — Как я сам? — Да. Я имею в виду, как твое самочувствие? Папаша уставился на меня. — Как всегда, — сказал он, что бы это ни означало. На самом деле, после разоблачения Мамы я вынашивал план, касающийся Папаши. Вот какой. Год назад, будучи почти ребенком, я отравился едой. Это то, что со мной случилось, — но не то, что сказали врачи. По их словам, у меня было все, что угодно, кроме отравления. Поверьте мне, я ничего не выдумываю. Когда местный хирург-эксперт сделал свое заключение, меня отправили в государственную клинику, где трое врачей брали у меня анализы, давали мне таблетки, делали инъекции, и выписали меня, как здорового. Несколько дней у меня была температура, и каждый час я блевал. Именно тогда я чуть было не вернулся домой, к Маме с Папой, потому что мне стало по-настоящему страшно. Потом меня осенило. Все знают, что на Харли-стрит занимаются делами лучшие врачи, поэтому я подумал — почему бы им не заняться мной? Я пошел туда однажды и решил, что выберу номер дом по числу месяца этого дня, позвоню в дверь, а дальше будь что будет. Проблема оказалась в том, что там было шесть дверных звонков, так что я позвонил во все. Если вы не верите таким сказкам, не забывайте, что меня лихорадило, я ничего не соображал, и мне было плевать, что будет дальше; все, чего я хотел, это найти кого-нибудь, кто бы знал. На все шесть звонков ответил один человек, а именно какая-то медсестра-секретарша, и мне не пришлось выбирать между шестью медиками, потому что я скорчился на мраморном полу, и Др. А. Р. Франклин сам выбрал меня. Это был кот-медик, вылечивший меня. Когда я встал, вновь блюя, и сфокусировал свой взгляд на нем, я увидел серьезного высокого моложавого человека, попросившего меня рассказать все о том, что со мной случилось, что я и сделал. Он час исследовал меня, и потом сказал, «Ну что же, я не знаю, что с тобой стряслось, но мы должны это выяснить». Я не могу передать вам, как потрясли меня эти слова Д-ра Ф. Потому что все остальные парни из Скорой Медицинской Помощи убеждали меня в том, что они точно знают, в чем дело (хотя детали они разъясняли весьма расплывчато). Но Д-р А. Р. Франклин с Харли-стрит сказал, что он не знает — и вызвал машину, и привез меня в одну из тех клиник «восемь-гиней-в-неделю», где вам прокалывают уши, или меняют пол за трехзначную сумму — не упоминая о том, кто будет платить сколько и кому. В двух словах, пихая на протяжении двух дней всякие штуки в каждую дырку в моем теле, он нашел гнойник, проколол его, и температура спала, и на этом все закончилось, правда, мне пришлось остаться в больнице еще на неделю, что мне не очень понравилось, из-за медсестер. Я знаю, что медсестры великолепны и все такое, но они любят распоряжаться. Они знают, что любой мужчина помнит, что в детстве им распоряжались женщины, и когда ты лежишь на этом резиновом матрасе, между простынями, накрахмаленными так сильно, что они становятся похожими на игральные карты, и под вечно короткими одеялами, медсестры пользуются этими воспоминаниями о детстве, и пытаются заставить тебя почувствовать, что ты снова в этой уютной маленькой колыбельке, тебя качают женщины, вталкивают тебе в рот бутылки, в общем, не очень-то с тобой церемонятся. Но я выдержал это. И каждый день Д-р А. Р. Франклин заходил сказать «Хай», и относился он ко мне, по сравнению с этими медсестрами, как будто я министр или еще кто, — то есть он был чудовищно вежлив. Если сопоставить, кем был он и кем был я, уверен, что у него самые милые манеры, и я никогда не должен забывать этого. Но в тот день, когда меня выпустили, он вообще не пришел, чем лишил меня возможности поблагодарить его и задать хитрый вопрос о том, как оплачивать весь этот лечебный шик. Я написал ему, естественно, но хоть он и прислал довольно милое письмо в ответ, в нем он никак не затронул этот аспект. Тогда я сделал так. Пока меня держали в этом месте, я развлекался со своим Роллейфлексом в скучные моменты, и некоторые снимки, сделанные мной, были довольно интимными и забавными, поэтому я отобрал лучшие, увеличил, собрал их в альбом и отнес на Харли-стрит, и он написал мне письмо, где говорилось, что если я когда нибудь вновь попаду к нему, чего, он искренне надеялся, никогда больше не случится, он лично проследит, чтобы первым делом конфисковали мой Роллейфлекс. Вы должны уже были догадаться, что я задумал: каким-нибудь путем заставить Д-ра Ф. Осмотреть моего Папашу, но чтобы Папаша не знал, зачем именно. Все это время, естественно, мы были в концертном зале, но во второй половине Передника На Службе Ее Величества великолепное волшебство первой половины каким-то образом исчезло…. Я осмелюсь сказать, что старики Г. и С. немного спешили, или почувствовали, что все это становится обузой — в любом случае, интриги в мюзикле не прибавилось, она вся куда-то испарилась. Мы оба, конечно, знали, что будет небольшая анти-кульминация, но все равно были разочарованы и вышли на вечерний воздух, чувствуя себя немного потерявшимися и расстроенными. — Ну, вот, — сказал я. — Может, промочишь со мной горло? — предложил Папаша. — Извини меня, Пап, нет, у меня дел полно… — О. Проводишь тогда меня до автобуса? — Конечно. Я взял его за руку, и он сказал: — Как твоя работа? Я заметил, ты не очень часто пользуешься своей темной комнатой… Подозреваю, что даже Папаша начал догадываться, что темная комната в Роутон Хаус моей Ма была лишь предлогом, чтобы видеться с ним… ну, и с ней, в некотором роде… потому что в моем доме в Неаполе были дюжины мест, где я мог проявлять снимки. А что касается темных комнат с электрическими кабелями или измерителями, то есть огромное количество комнат, достаточно темных, чтобы работать в них часами. — Эта поездка! — сказал я Папаше, чтобы отвлечь его от мыслей. — Эта поездка на корабле по реке. Не забывай, ты обещал ее на мой день рождения в этом году — прямо до… как называется это место, ты говорил? — Рединг. — Ну вот! В таком случае, все заметано? Ты закажешь билеты? Папаша сказал, да, конечно, и я посадил его на какой-то автобус, махал ему, пока он не скрылся из виду, а потом, ступая обратно на тротуар, чуть не был сбит «Лагондой». — Аккуратнее, тинэйджер, — прокричал водитель и остановился на красный цвет. Я так устал от этих типов, ведущих себя, как герцогини, когда чаще всего машина даже не принадлежит им, а взята напрокат в рассрочку, или позаимствована у фирмы без разрешения начальства, и все, что они из себя представляют — это животные, передвигающиеся слишком быстро, а их задницы подвешены на шесть инчей выше асфальта. Я повернулся и хотел было устроить перепалку с этим Стерлингом Моссом, и увидел, что это был монарх рекламы, «Вендис Партнерс». — О, здорово, пассат, — сказал я ему, — откуда тебя принесло? — Пойдем, выпьем? — спросил у меня парень из «Партнерс», бесшумно открывая свою дверь. Я положил на нее свою руку. — Ты не извинился, — сказал я — за попытку лишить меня жизни. — Запрыгивай. Мы просим прощения, — сказал чувак, сидевший рядом с ним. Я быстро подумал, о, ладно, моя Веспа позаботится о себе сама, а этот В. Партнерс, быть может, пригодится мне для моей выставки, так что я влез на заднее сиденье, откуда открывался великолепный вид на негнущиеся белые воротнички, шеи, вымытые в Турецких банях, и совершенно немодные прически, сделанные на Джермин стрит. Вендис повернул ко мне голову и сказал: — Это — Эмберли Дроув. — Не поворачивай так, Вендис! — воскликнул я. — Как поживаете, М-р Дроув? — Ты нервничаешь? — сказал чувак из Партнерс. — Всегда, когда не я за рулем. — Тогда ты, должно быть, очень часто нервничаешь, — сказал мой коллега-пассажир громким «дружелюбным» голосом, угостив меня собачьей ухмылкой. — Лондонские трассы, — продолжил он, — превращаются в настоящее безумие. — Когда-нибудь они просто будут захвачены, — сказал я ему. — Они просто будут забиты, и вам придется идти пешком. — Я вижу, ты оптимист, — сказал он. — Еще какой, — ответил я. Вы понимаете, что наладить контакты с этим Эмберли Дроувом у меня не получилось. Сразу было видно, что судьба отметила его как одного из тех английских типов, которых вы обходите кругом радиусом в пять миль, не потому, что они опасны, нет, а потому что эти квадратные регбисты такие мальчишеские. В их тупых головах и чувствительных кулаках кроется тоска по счастливым прошедшим денькам, когда они били по голове младших в школе, и стремление к будущему, когда они надеются бить по головам кого-нибудь в колониях, если, конечно, те будут достаточно маленькими и беззащитными, чтобы не дать сдачи. — Эмберли, — сказал мне М-р П., — очень волнуют насущные вопросы. Он — автор передовиц. — Неужели? — сказал я. — Я всегда хотел знать, как они выглядят. Вас не волнует, что никто не читает вашу чушь? — О, читают. — Кто? — Члены парламента… зарубежная пресса… люди в Сити… — Да, но я имею в виду кого-нибудь настоящего? Вендис рассмеялся. — Знаешь, Эмберли, — сказал он, — кажется, этот юный парень кое-что соображает. Эмберли выдал смешок, вызывавший мурашки. — Передовицы направлены на более интеллигентные слои общества, — какими бы малочисленными они ни были. — Вы хотите сказать, что я болван? — Я хочу сказать, что ты ведешь себя, как болван. Мы остановились возле одного из зданий на Пэлл Мэлл, похожее на заброшенную ночлежку Армии Спасения, и Эмберли Дроув вылез, долго говорил о чем-то с Вендисом через окно, потом сказал мне «Молодой человек, я содрогаюсь при мысли, что будущее нашей страны находится в ваших руках», и не дожидаясь ответа (а его бы и не последовало), поднялся по лестнице, одним шагом перемахивая три ступеньки, и исчез в своем центре. Я перелез на переднее место рядом с Вендисом. — Он слишком молод, чтобы так себя вести, — сказал я. — Ему надо подождать, пока он не станет более пожилым. Вендис улыбнулся и сказал мне: — Я думал, он тебе понравится. Я хотел было поднять тему фотографии, но дело в том, что мне показалось, что В. Партнерс был слишком парализовывающим. Он был так спокоен, вежлив и саркастичен, что складывалось впечатление, что он просто ни во что не верил — вообще ни во что — так что все, что я нашел сказать, через какое-то время, было: — Скажи мне, М-р Партнерс, для чего нужна реклама? Вернее, для чего она нужна? — Это, — сказал он тут же, — вопрос, на который мы должны отвечать без промедления. Теперь мы остановились возле классифицированного здания в районе Мэйфер, и он сказал мне: — Я должен забрать кое-какие бумаги. Хочешь заглянуть? Я могу описать атмосферу этого притона, сказав вам, что он был похож на очень дорогой склеп. Конечно же, все сотрудники уже ушли, и свет везде был тусклым, что делало все это немного потусторонним. Это действительно было похоже на склеп или надгробие, на нечто большое, сделанное людьми, чтобы доказать что-то, во что они не верят, но очень хотят. Офис Вендиса находился на втором этаже, исполненный в белых, золотых и розовато-лиловых тонах. Бумаги лежали на столе в цветных папках, и я спросил, что в них содержится. — Это для Рождества, — сказал он мне. — Я не врубаюсь. Он взял одну папку. — Здесь описан продукт, — сказал он, — который, как мы надеемся, заполнитприлавки под Рождество. — Но сейчас июль. — Мы должны планировать все загодя, не так ли? Сознаюсь, я содрогнулся. Не от его идеи вложения денег в Рождество, потому что этим занимаются все, а от самой идеи праздников, возвращающихся снова и снова, словно ежегодный кошмар. Счастливое Рождество всегда вселяет в меня ужас, ибо ты не можешь зайти к друзьям, так как все крепко заперлись в своих собственных крепостях. Это можно учуять уже, когда листья покрываются золотом, потом начинают приходить эти поганые открытки, и все собирают их, словно трофеи, чтобы показать, как много у них приятелей, и весь этот ужас достигает апогея в тот самый момент, около трех часов пополудни в этот священный день, когда Королева выступает перед покорной нацией. Это дни мира на земле и доброй воли среди людей, никто во всем Королевстве не думает о тех снаружи, кроме кошек за дверью, каждый спокойно смотрит сны о самом себе и тянется за Алка-Зельтцером. В течение двух или трех дней, и это правда, англичане пользуются теми улицами, где больше ни разу не посмеют появиться до конца этого долгого года, потому что по улицам мы должны мчаться в спешке, а не стоять на них. Студенты распевают ужасные рождественские гимны для крестьян на железнодорожных станциях и в вагонах, чтобы показать, что этот праздник — милосердный, и разрешен всем, а не только богеме. И когда все это заканчивается, люди ведут себя так, будто всю нацию постигло смертельное горе, — то есть они ошеломлены, мигают так, как если бы были все это время погребены, и медленно возвращаются к жизни.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля