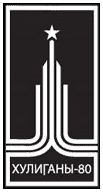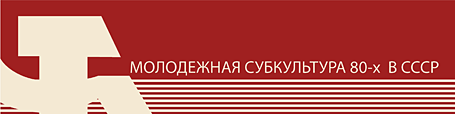

Альтернативная мода.Лариса Лазарева,2010.
|
Л.Л. Детство прошло возле станции метро Октябрьская, практически в 5‑й химической спецшколе, все достаточно прилично по советским меркам. Школа стояла в окружении домов дипломатов и академиков, и состав в классах был соответственный. Напополам детей академиков и дипломатов, и, естественно, с жестким набором советских детей. За одними партами сидели венгры, японцы, кого только не было… Поскольку родители мои трудились в УПДК, с детским мерчендайзом и посещением магазинов «Березка» проблем особых не испытывалось. Возможно, поэтому сознание тянулось к иному. Училась я неплохо, особенно по русскому и литературе, к тому же наш классный руководитель был по совместительству преподавателем этих предметов. И когда по системе естественного отбора после перевода во взрослые классы из школы повыкидывали всех троечников, со мной подобного не произошло. Тогда было принято расформировывать несколько младших классов и собирать из них один. Когда произошло это совмещение, я, будучи в статусе «хорошей девушки», познакомилась с двумя «плохими» из совмещенного класса. Причем в это понятие не входило какое-то откровенное хулиганство, а подразумевалась своя обособленная внутренняя жизнь. Девушки очень хорошо лепили и рисовали, любимым занятием у них было моделирование каких-то каркасов на которые налеплялись фигурки фантастических животных, причем внутренности заполнялись красным советским пластилином, тело утыкалось шипами, к лапам прикреплялись шарниры для дальнобойности. Смысл игры заключался в том, что поставленные на колесики эти чудища жестко врезались друг в друга, истекая пластилиновой кровью к великой радости подростков. Проигравший должен был быть более изобретателен в конструировании и укреплении своего боевого монстра. Учились они, конечно же, плохо и вели себя, по представлениям учителей, несомненно отрицательно.
И вот, после восьмого класса началась новая эпопея со школьными лагерями. Просто детей вывозили проветриться или чтоб родители отдохнули. Нас тогда тоже вывезли, развели по палатам и я окунулась в настоящую жизнь полную человеческих эмоций и веселья. И мы стали «выпускать» журналы. Мы сами придумывали концепт и рекламные модули со смешнейшими креативами по поводу, что нужно делать или покупать. Естественно, пародийные, с текстами, стихами. Поскольку у меня проблем с доступом ко всяким «зарубежностям» не было, журналы наши пестрели вырезками из «Ньюсвиков» и иных изданий, контент был прогрессивным и познавательным. (смеются)
Дорезвились мы до того, что поведение наше быстро скатилось до нижней планки, а вскоре я стала местным чемпионом по количеству двоек за поведение. Причем ничего особенного мы не делали, но получалось так, что наш эпатаж дико раздражал директорат. Например, у нас вместо школьных кошельков были пачки из-под иностранных сигарет. Из которых, бравируя каким-нибудь «Мальборо», насыпалась мелочь в школьных буфетах. Одежда, естественно, была нетрадиционной. И поведение превратилось в нескончаемый вызов.
М.Б. Сейчас уже, наверное, будет непросто это понять, ибо ходи в чем хочешь. И нарушение запретов на ношение в школу вычурных сережек, косметики и прочего грозили большими неприятностями для выпендривающихся девиц. Не говоря уже о школьной униформе, которая под конец учебного года смотрелась несколько забавно на быстро развивающихся подростковых организмах.
Л.Л. Да без коричневой формы и черных фартуков ходить было нельзя. Мне пришлось шить платье на заказ. Оно было коричневое, на пуговицах от начала до конца, и я носила его на трех пуговицах посередине. Вместо принятых белых пришивных воротничков под платье надевалась белая рубашка, воротник выпускался сверху. (смеется) Все эти псевдоиностранные журналы в пику девичьим тетрадкам… И потом мы дико прикололись ходить в диковинное для советского периода 70‑х заведение— боулинг. Мы не ели, не пили, чтобы раз в неделю посетить боулинг в парке имени Горького. Тусовка парковская была известна достаточно жестким хулиганствующим контингентом, и как-то мы там с детства примелькались. В нашем классе учились такие же тусовщики, и в случаях тревожных мы всегда могли найтись ответом «А мы знаем, там, какого-нибудь Кису», поскольку вопрос «А кого вы знаете?» и правильный ответ всегда служили защитой от неприятностей в подобной среде. Хотя можно было получить в ответ: «Да кто такой Киса? Киса— это шестерка», но пик тревожности после этого считался пройденным. (смеются) Парк был рассадником жестких взаимоотношений, эдаким прилюдным андеграундом. Парни ходили, естественно, с длинными волосами, в клешах от бедра по 60 и 40 сантиметров книзу, расшивать узорами особо никто не расшивал. И к хиппи это все не имело никакого отношения. Нормальный активный столичный жесткач. Особой фишкой была закупка детских советских шуб, которые выворачивались наизнанку и расшивались под дубленки. Феньки были, и вот тогда уже началась тема с «Березкой», ассортимент которой был представлен наполовину советским китчем и вполне добротными советскими вещами, а наполовину— изделиями зарубежными. Естественно, что основной проблемой была обувь, все остальное можно было как-то смастерить или раскопать в родительском гардеробе. Мне в этом плане было полегче— либо привозили, либо брали в «Березке», и все это явно контрастировало с серо-коричневой гаммой окружающей среды. Причем к черным вещам пока еще не было прикола, все модники стремились к попугайским расцветкам, которые были представлены старинными китайскими рубашками, а кто имел возможность, тот шил себе чего-то в ателье. Мне, например, в соседствующем с домом ателье пошили брюки. Миша Королев тоже смешные истории по этому поводу рассказывал. Когда нужны были клеша, то он шил их сам не только себе, но и всем друзьям. По женской выкройке, другой не нашлось, но основная проблема с ширинкой этим способом решиться не могла, и молния постоянно рвалась. Джинсы, конечно же, были в почете, не важно индийский ли «милтонс» или болгарские. Американские считались чем-то вроде посылки с небес, о них слышали, но мало кто видел. И степень почетности иногда измерялась количеством джинсов в гардеробе. Джинсы в некоторых случаях могли служить валютной у. е., их можно было на что-то обменять или продать при любой степени изношенности. Были специальные барыги, меняющие, к примеру, тертый «райфл» плюс тертый «лии» на почти новый «вранглер». Джинсы, хоть одни, но должны были быть, и за ними давились в предолимпийских очередях. Однажды, не помню за какими джинсами, стояли мы пять или шесть часов в «Добрынинский» на Люсиновской улице. Почему вписались в эту очередь— не помню тоже. (смеются)
М.Б. Ну, это был один из способов коммуникации. Постоять на свежем воздухе и обсудить политическую ситуацию в мире и в стране. (смеются)
Л.Л. Да. Но когда мы с подружкой «не разлей вода» дождались своей очереди, я беру джинсы в руки, и они оказываются последними. Моя подруга выхватывает их у меня из рук и убегает. (смеется) А потом звонит по телефону и со слезами в голосе просит прощения, апеллируя к тому, что мне родители еще купят, а для нее это последний шанс. Конечно, это все ерунда, но насколько забавно все эти переживания теперь вспоминаются. Дружба и мода во все времена были несовместимы, но на советской почве это было вдвойне заметно. Причем с мамой поход в «Березку» положительно закончится не мог по определению, потому как все время выбиралось что-либо противоположное моему вкусу, а на запрос «Хочу джинсы» следовал ответ: «А что это такое?» Пришлось прямо-таки подвести к заветному «райфлу» и уговорить на покупку, несмотря на то, что стоили эти брюки столько же, сколько и сапоги, и потратить нужно было условно 20 чеков неизвестно на что. Боролись мы долго, но победу одержала молодость. Причем материалы, которые обычно можно было купить в комиссионке, мне тоже иногда доставались в виде зарубежных посылок. Помню, кусок ткани на платье я получила в коробке с мандаринами, и какое-то время платье имело изумительный мандариновый запах. Но помимо проблем с материалами модников поджидала следующая проблема— те портные, которых я встречала, почему-то не умели делать современные выкройки, советская школа использовала только присущий ей необоснованно сложный и совершенно нефункциональный крой. Поэтому мы как-то сами старались разглядывать вещи, и, конечно же, немалое количество этих вещей пало под напором нашего энтузиазма. Оставались простые выкройки из «Бурды», и те, которые продавались в Доме моды на Кузнецком мосту. Там тогда какая-то тема была, не менее безумная, чем магазинная— огромные карманы, огромные накладные плечи… Но все же пару-тройку подходящих, после некоторого апгрейда, вещей выбрать было можно. Опять же, журнал «Силуэт», зачем-то усложнял до невозможности все, что через него проходило. Все это соревнование в вычурности отталкивало в сторону фарцовщиков, которые, естественно, спешили на встречу потребителю с большей расторопностью, чем госструктуры. Многие известные сейчас фигуры начинали фарцовщиками в центральных туалетах!
Решив не поступать, я оказалась в тупике, из него меня вывела подруга, которая тогда поступала в «Плешку» и предложила попробовать. Время было такое, что большинство поступающих москвичей в массе своей не планировали каких-то своих будущих специальностей. Началась веселая студенческая жизнь, потому как институты представляли собой особую коммуникацию, где было все. Модная продвинутая молодежь, любые шмотки, беспробудные похождения, дискотеки. В принципе, как и во многих других московских ВУЗах, шла параллельная учебе почти самостоятельная жизнь. Помимо института мы кружились по подобным дискотекам и общежитиям в других ВУЗах. Забивали на учебу, и институт использовался разве как место встречи для дальнейших путешествий. Но к моменту смерти Брежнева пришло состояние пресыщения, а жажды знаний по профилю как-то не прибавилось. Да еще был стройотряд, который к термину «стройка» не имел никакого отношения. Парни наши работали в ресторанах и приносили оттуда всяческие вкусности, вина и прочее. Как раз началась Олимпиада, и наступило временное всеобщее изобилие. В полупустых магазинах Москвы стояли портвейны «Абу Симбелл» и «Порто». Причем к этому моменту куда-то стали пропадать отечественные алкогольные напитки, и на этом фоне столичные витрины выглядели сказочно. Отряд наш участвовал в олимпиадной программе, но никому эта тема не была интересна. Сухие пайки, портвейн и дачи перевешивали. При этом круг знакомств и коммуникация расширялись, обрастая новыми знакомыми.
М.Б. Но постепенно наступала фестивальная пора. Вы как ее встречали, во всеоружии меломанских пристрастий? Л.Л. Музычка сначала присутствовала в виде Queen, Creedence, Smokie, Slade, в меньшей степени The Beatles, но, естественно, у спекулянтов выбор был гораздо мощнее, и я часто ездила пополнять запасы к маминому знакомому, специализировавшемуся именно на этом. А в студенчестве, когда вспыхнуло диско, конечно же, присутствовало все от Boney M и Baccarat до совсем уже неприличных итальянцев и Crazy music for crazy people. Внешний вид тогда уже оформился в какие-то неприлично короткие юбки с безумными воланами, позже к этому делу добавились пресловутые лосины. К фестивалю появились сахарные начесы, которые никак не удержать было обычным лаком, безумные химии. В итоге получалось то, что советские граждане обозначали «я у мамы дурочка» или «взрыв на макаронной фабрике» (смеются) Косметика у нас была в порядке, и пользоваться мы ей умели в отличие от большинства соратниц по полу. Но время требовало ньювейверского радикализма, и глаза вместе со скулами терпели наш свирепый, почти индейский макияж. Появился лак с какими-то цветочками и лютиками, который потом резко сменился на радикально зеленый и черный макияж. Помню, косметика югославская закупалась у «Ядрана» с рук, хотя и польская косметика «Ванда» присутствовала, и позже это все вылилось в челночное движение. С этого периода люди, которых я застала, начали наряжаться уже в осмысленные костюмы и полностью выдерживали стилистические образы. Естественно, что обилие такой молодежи в центре сделало абсурдным запреты на рок-музыку, и все стремительно начало легализовываться. При этом даже когда появились некоторые стандарты в виде трехъярусных юбок, каждый распрягался как мог. Накручивались клепанные ремни, широкие и узкие, совмещалось несовместимое, и это придавало уникальность как образам, так и внутренним ощущениям. Вдобавок появились, каплевидные и узкие очки, серьги и клипсы ядовитых цветов. Солнечные очки стали практически обязательны для каждого продвинутого носителя. А сам фестиваль как-то потонул в событиях, и мы не особо им интересовались, потому что уже встали на рок-н-ролльные лыжи и тусовались с правильными парнями. Я тогда беременная ездила на питерский рок-фестиваль, где выступал Костя Кинчев, который до этого круто пел еще чужие песни и тренировал свои легкие в церковном хоре. Саша Башлачев стал крестным моему сыну Даниле. Он жил в Ленинграде и как и все тогда сновал между Москвой и Питером по квартирам друзей, давая там же квартирные концерты. В то время квартиры были лучшими площадками для концертов, перформансов и просто тусовок. Люди постоянно перемещались из дома в дом с различными целями. Постоянно кто-то у кого-то жил или тусовался, все были связаны друг с другом совместным времяпровождением.
В это время Москва и Ленинград сильно сблизились. Все без конца двигались по железной дороге между двумя столицами, проводницы основных составов были как родные, огромное количество романтических историй и даже браков происходило между Ленинградским и Московским вокзалом. Оба города жили в на одном дыхании. В Ленинграде тогда был Рок-клуб и свои авторитеты, в Москве появилась Рок-Лаборатория ,со своими.
Студенчество мое как раз закончилось, и поскольку в СССР не работать было нельзя, я устроилась в международное турагенство «Спутник» на Малоивановском. Там как раз мы познакомились с Региной, Юрой Козыревым, который сейчас один из лучших стрингеров, с Ирой Мешкорез и с фотографом Мишей Королевым, которые имели отношение к системному люду. Так постепенно складывалась иная разнородная коммуникация. Поскольку Костя Кинчев был женат на моей подружке из Питера, а вторая была за Забулдовским, то народу в круг общения попадало много. Тот же Сашбаш постоянно к нам приезжал, тем более что у нас случались какие-то туристические выезды. В городе мы уже познакомились с Ником Рок-н-роллом, Гариком и с целым необъятным людским потоком. Постоянно наезжая в Питер, где художественная жизнь была на подьеме, мы познакомились с Миллером, «Новыми академиками» и попали уже в художественный андеграунд, где уже все кипело. Юхананов уже вовсю работал с «Оберманекенами», и событий происходило довольно много. Из мастерской в мастерскую перебегали группы творческих деятелей, разбрасывая по дороге россыпи идей, которые позже воплощались в совместных проектах. Конечно, хотелось во всем этом участвовать и с этого момента можно начать отсчет нашего с Региной проекта. Тем более что я постоянно что-то мастерила и необходимость куда-то вливаться назрела.
Сначала это выражалось в том, что мы с Региной участвовали в качестве моделей у Ирэн Бурмистровой, у которой моделили многие представители будущего московского бомонда. И в какой-то момент мы тоже решили, что сами можем сделать что-то прекрасное. Будучи в Петербурге и гуляя в абсолютно черных одеждах, решили что надо сделать какую-нибудь коллекцию. Первая коллекцию была сделана на моей кухне из совершенно странных предметов. Просто хотелось сделать что-то красивое. К кускам железяк, пришивали какие-то кружева, а на вопросы удивленных знакомых, мы отвечали- готовим костюмы, все, не приставайте- это вот такой авангард.
Но не такой как был уже заявлен Ирен. Ее модели были резко эклектичны, и даже урбанистичны. А мне они казались немного неэстетичными,
М.Б.Если вспомнить 20-е, то авангард часто оперировал грубыми и резкими формами. Вы ориентировались на конструктивизм 20-х?
Л.Л.Это присутствовало, но в ином виде. Мне всегда нравится как костюм-конструкция работает. Но нам хотелось сделать что-то из нетрадиционных материалов, но максимально эстетично, показать отношение к вещам с другой стороны. И впоследствии это стало концепцией дуэта Ла-ре . Выставки и коллекции наши были объединены такой идеей, что уникальность, гламурность вещи зависят не от того из чего это сделано, а оттого как ты к этому предмету относишься. Украшения могли быть сделаны из каких-то листочков, цветочков с камешками. Они все были уникальны, потому что их невозможно было повторить, как это неповторимо существует в природе. А если ты берешь какой-то предмет и выдергиваешь его из природного контекста, преображаешь его, наполняешь другим смыслом, то ты придаешь ему новую уникальную ювелирность. Я считаю, что это в каком то смысле был гламурный панк.
|
| 1 2 3 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля