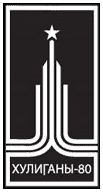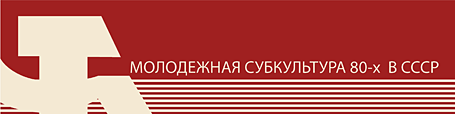

«Томпсон Х. С. Ангелы ада»:
22
«Тот, кто сам в себе будит зверя, избавляется от боли чувствовать себя человеком» (Доктор Джонсон).
«Весь квартал неожиданно взорвался шумом возбужденной, патологически отвратительной толпы. Истеричные женщины рвались в исступлении вперед, заходясь почти в сексуальном экстазе, царапая и нанося удары полицейским и агентам, пытаясь дотронуться до тела. Грудастая пухлая женщина с жирными огненно‑рыжими волосами прорвалась через оцепление и обмакнула в лужу крови свой платок, прижала его к потной одежде и, пошатываясь, словно пьяная, пошла вниз по улице» (Из отчета о смерти Джона Диллинджера).
К Рождеству тусовочная жизнь сбавила обороты, и Ангелы исчезли со страниц газет. Тайни потерял работу, Сонни погряз в долгом судебном процессе по обвинению в покушении на убийство, [3] а «Эль Эдоб» был стерт с лица земли «клин‑бабой». Ангелы кочевали из одного бара в другой, но они очень быстро поняли, что гораздо труднее создать заново место для постоянного зависалова, чем сохранить старое. Да и в Сан‑Франциско течение событий заметно замедлилось. Френчи провел три месяца в Главном госпитале, после того как рядом с ним взорвался бак с бензином, а Пых оказался за решеткой в результате шумной ссоры с двумя копами, которые устроили налет на вечеринку по случаю дня рождения одного из Ангелов. Зимой «отверженные», как правило, впадают в анабиоз. Многим из них приходится идти работать, чтобы обеспечить себе страховку по безработице следующим летом, для больших вечеринок на открытом воздухе погода совсем неподходящая и холодная, а из‑за постоянно моросящего нудного дождя поездки на мотоциклах становятся опасными для жизни их владельцев. Похоже, пришло то самое время, когда необходимо заняться работой, и я выпал из тусовки. Иногда заглядывал Терри, чтобы держать меня в курсе происходящих событий. В один прекрасный день он заявился со сломанной рукой и сказал, что разбил свой мотоцикл, благоверная его бросила, а ниггеры взорвали его дом. Я слышал о случившемся с его домом от жены Баргера, Эльзи, которая устроила некое подобие пункта связи в своем жилище в Окленде. Во время очередного обострения отношений между Ангелами и неграми из Окленда кто‑то бросил самодельную бомбу в окно дома, который снимал Терри. Огонь уничтожил и дом, и все рисунки Мэрилин. Она была хорошенькой миниатюрной девушкой лет девятнадцати с длинными светлыми волосами. Ее родители были почтенными и уважаемыми людьми, достойно коротавшими свои дни в одном из городков в Долине. Она прожила с Терри почти шесть месяцев, украшая стены своими художествами, но иметь дело со взрывающимися бомбами ей как‑то не хотелось. Чаша терпения Мэрилин переполнилась, и они довольно быстро разошлись… почти сразу же после переезда в другое место. «Однажды ночью я вернулся домой, а ее нигде не было, — рассказывал Терри. — Она оставила только записку: „Дорогой Терри, все на хуй“. И на этом все было кончено». Вплоть до января не происходило ничего интересного. И вот накрылся «Матушка» Майлз. Он ехал на своем байке через Беркли, когда из боковой улицы выскочил грузовик, и они ударились лоб в лоб. У Майлза был перелом обеих ног и проломлен череп. Он пролежал шесть дней в коме, и умер утром в воскресенье, не дотянув всего лишь двадцать четыре часа до своего дня рождения — ему исполнилось бы тридцать лет… Так Майлз оставил свою законную жену, двух детей и верную подружку Энн. Он был президентом отделения Сакраменто. Его влияние было так велико, что в 1965 году он перевел целиком свой клуб в Окленд, заявив, что из‑за постоянного преследования со стороны полиции жизнь байкеров стала совершенно невыносимой. «Отверженные» просто собрали все свои шмотки и переехали, ни на секунду не сомневаясь в мудрости принятого Майлзом решения. Настоящее имя Майлза — Джеймс, но Ангелы прозвали его «Матерью», или «Матушкой». «Думаю, к нему это прозвище прилепилось потому, что он был нам, считай, родной матерью, — говорил Пузо. — Майлз был поистине великим, великим человеком. Он заботился о каждом. И беспокоился о каждом. На него всегда можно было положиться.» Я же знал Майлза с несколько другой стороны . «Мать» не доверял писателям, но никаких напрягов у нас с ним не возникало — он раз и навсегда решил для себя, что я никоим образом не собираюсь упрятать его за решетку, и стал относиться ко мне весьма дружелюбно. У него было огромное пивное пузо портового грузчика, круглое лицо и очень приметная борода. Мысль о том, что Майлз мог оказаться обычным хулиганом казалась мне абсурдной. Список его проступков, зафиксированных полицейскими, включал типичный для Ангелов Ада набор: пьянство, буйство, драки, бродяжничество, дебош, мелкие кражи и несколько обвинений в «предполагаемом совершении преступлений», так и не дошедших до рассмотрения судом. Но он не был одержим теми демонами, которые любили вселяться в его друзей и подбивали их на совершение всяких сомнительных поступков. Счастья в нашем мире он не нашел, но особенно на этой неудаче не зацикливался, правда чувство мести ему было не чуждо, но в основном «Матушка» всегда горел желанием рассчитаться либо за обиды, нанесенные Ангелам, либо ему лично. Ничего глобального. Можно было выпивать с Майлзом, не беспокоясь, что он внезапно бросится на кого‑то или незаметно стянет твои деньги со стойки. Такие фокусы были ему несвойственны. Бухло, похоже, делало его более добродушным. Как и большинство лидеров Ангелов, он был человеком исключительно сообразительным, с отлично развитым чувством самоконтроля, которому доверяли все остальные. Услышав о «Матушкиной» смерти, я позвонил Сонни, чтобы узнать относительно похорон. Но к тому моменту, когда мне удалось разыскать Президента, о подробностях дела уже трубили все газеты и радиостанции. Мать Майлза договорилась о том, что похоронят сына в Сакраменто. Процессия outlaws собиралась у дома Баргера, в четверг утром в 11 часов. Ангелы много раз отправлялись на похороны своих товарищей, но только сейчас они попытались проехать траурной колонной целых 90 миль по главному хайвею штата. Кстати, никто не исключал вероятность того, что полиция Сакраменто попытается не пустить их в город. Сигнал о сборе был получен по телефону в понедельник, а подтверждение правильности информации поступило во вторник. Эти похороны не должны были стать чем‑то подобным погребению Джея Гэтсби. Ангелы хотели, чтобы все участники траурного пробега облачились в полную парадную форму. Дело было вовсе не в статусе Майлза; смерть любого Ангела требует от остальных достойной демонстрации силы. Это своеобразный способ подтверждения занимаемого положения, причем не для покойника, а для живых. С отсутствующих на похоронах не взимают никаких штрафов, в этом нет никакой необходимости. В дешевом одиночестве, пронизывающем жизнь каждого «отверженного», похороны — суровое и мрачное напоминание о том печальном факте, что их племя не досчиталось еще одного воина. Из круга общения выпал еще один контакт, враги воспрянут духом и станут наглее, чем прежде, а защитникам веры потребуется Нечто, чтобы справиться с холодком печали и скорби. Похороны — подходящее время для подсчета преданных Делу душ, возможность проверить, много ли их осталось. И никто не будет скулить, что, дескать, вот двигатель забарахлил, что ночь напролет глаз не сомкнул, провел много часов в пути, на холодном ветру, чтобы прибыть вовремя. Байкеры начали съезжаться в Окленд рано утром в четверг. Большинство «отверженных» были уже в Бэй Эреа или, по крайней мере, в пятидесяти или шестидесяти милях от нее, но компания «Рабов Сатаны» ехала всю ночь в среду, отмахав пять сотен миль из Лос‑Анджелеса, чтобы присоединиться к главной колонне. Другие приезжали из Фресно и Сан‑Хосе, из Санта‑Розы: «Висельники», «Неприспособленцы», «Президенты», «Ночные Райдеры», «Алканы» и какие‑то типы совсем без «цветов». Невысокого роста, с суровым выражением лица человек, с которым вообще никто не разговаривал, был одет в куртку капрала артиллерии из шерстяной ткани защитного цвета, с единственным словом «Одиночка», написанным голубыми чернилами на спине, — так обычно подписываются на каком‑нибудь непонятном документе. Я переезжал через мост над Заливом, когда мимо, игнорируя ограничение скорости, промчалась дюжина «Цыганского Жулья». Они разделились, чтобы обойти меня с двух сторон. Секундами позже затерялись впереди в тумане. Утро было холодным, и весь транспорт медленно двигался по мосту, за исключением мотоциклов. Внизу в Заливе можно было разглядеть скопление грузовых судов, ожидающих, когда освободятся причалы. Процессия тронулась с места ровно в одиннадцать — сто пятьдесят байков и около двадцати машин. Через несколько миль к северу от Окленда, на мосту Каркинес, к «отверженным» присоединился полицейский эскорт, который должен был контролировать их движение. Машина дорожного патруля сопровождала караван на всем пути следования в Сакраменто. Ведущие Ангелы ехали по двое в ряд по правой полосе, твердо придерживаясь шестидесяти миль в час. Вместе с Баргером колонну возглавляла его неряшливая преторианская гвардия: Маго, Томми, Джимми, Скип, Тайни, Зорро, Терри и Жеребец Чарли Совратитель Малолетних. Это театрализованное действие мешало нормальному движению транспорта на протяжении всего пути. Они выглядели сборищем пришельцев, гостями из другого мира. «Отбросы Земли», « самый низший вид животных», армия немытых насильников…. которую эскортировала к столице штата машина дорожного патруля с включенной желтой мигалкой. Выдерживаемый всеми четкий темп процессии сделал ее неестественно торжественной. Даже сенатор Мерфи и тот безошибочно определил бы, что никакой опасности в себе этот пробег не таит. Те же самые бородатые лица; те же серьги и эмблемы, — свастики и оскаленные черепа, — развевающиеся на ветру, но на этот раз не было видно прикидов для вечеринок, никакого издевательства над «цивилами». Они все еще продолжали играть свою роль, но уже всерьез, без всякого юмора. Единственная неприятность на маршруте произошла, когда процессию остановили полицейские, получив жалобу от владельца бензоколонки, что кто‑то украл четырнадцать кварт масла во время последней заправки. Баргер быстро собрал деньги, чтобы рассчитаться с мужиком, пробормотав, что тот, кто спер это масло, заслуживает того, чтобы его отметелили цепью… но позже. Ангелы заверили друг друга, что это, вероятно, был какой‑то панк в одной из машин позади каравана, какой‑то безмазовый говнюк, не имевший понятия о классе. В Сакраменто все было спокойно. Сотни любопытных выстроились на дороге между моргом и кладбищем. Внутри небольшой церкви у гроба с телом томились в ожидании компания друзей детства Джима Майлза, несколько родственников, приглашенный священник и трое заметно нервничающих служек. Они знали, кто должен пожаловать сюда с минуты на минуту — «люди Матушки» Майлза, сотни головорезов, свирепых драчунов и скандалистов и эксцентрично выглядящих девушек в обтягивающих попки «левайсах», шарфах и париках платинового цвета. Мама Майлза, крупная пожилая женщина в черном костюме, громко рыдала на передней скамье, смотря на сына, лежащего в открытом гробу. В час тридцать прибыл караван outlaws. От размеренного грохота мотоциклетных моторов задребезжали стекла в окнах морга. Полиция пыталась регулировать движение транспорта, пока объективы телевизионных камер сопровождали Баргера и примерно еще сотню «отверженных» к дверям церкви. Многие байкеры ждали окончания службы на улице. Они спокойно стояли небольшими группами, облокотившись на свои байки, и коротали время, лениво перебрасываясь словами. Вряд ли кто‑нибудь говорил о Майлзе. В одной из компаний по кругу передавали пинту виски. Некоторые из «отверженных» беседовали со случайными зеваками, пытаясь объяснить им происходящее. «Да, этот чувак был одним из наших лидеров, — сказал один Ангел пожилому мужчине в бейсбольной кепке. — Он был хорошим человеком. Какой‑то подонок выскочил на красный свет и сбил его ударом в лоб. Мы приехали похоронить его в цветах». Внутри часовни из сосновых бревен священник внушал своей странной пастве, что «возмездие за грех — смерть». Он выглядел, как фармацевт Нормана Рокуэлла, и было видно, что все происходящее в целом вызывало у него стойкую неприязнь. Не все скамьи в церкви были заняты, но зато ближе к выходу толпились люди. Священник говорил о «грехе» и «прощении», время от времени делая паузу, словно ожидая возражений со стороны толпы. «Не мое дело судить кого‑либо, — продолжал он. — Не мое дело восхвалять кого‑либо. Но моя обязанность говорить о предупреждении свыше, о том, что это может случиться с вами! Я не ведаю, что думают некоторые из вас о смерти, но знаю одно — Священное Писание говорит нам, что смерть грешника не радует Господа… Иисус умер не во имя животных, он умер во имя человека… Что бы я ни сказал о Джиме, мои слова уже ничего не изменят, но я могу проповедовать для вас, и это возлагает на меня ответственность, предупредить вас, что вы все должны будете ответствовать перед Господом!». Толпа переминалась с ноги на ногу и потела. В церкви было так жарко, будто Дьявол поджидал на крыльце, готовый затребовать себе грешника, как только закончится проповедь. — Сколь многие из вас, — спрашивал священник, — сколь многие из вас, идя сюда, задавались вопросом: «Кто следующий?». При этих словах несколько Ангелов поднялись со скамей и вышли вон, шепотом матеря тот образ жизни, от которого они давным— давно отреклись. Священник сделал вид, что не заметил эти проявления неповиновения и бунтарства, перейдя к рассказу о тюремщике Филиппа. «Срань господня!» — пробормотал Тайни. Он тихо простоял сзади где‑то около получаса, обливаясь потом, и поглядывал на священника с таким свирепым выражением лица, словно собирался отловить слугу Господа чуть позже и пересчитать ему все зубы. Следом за Тайни смылись еще пять или шесть человек. Священник почувствовал, что его власть над аудиторией становится с каждой секундой все слабее и слабее, и быстро покончил с байкой о Филиппе. Толпа повалила из церкви, но никакой музыки не было. Я подошел к гробу и был шокирован, увидев «Матушку» Майлза чисто выбритым, мирно лежащим на спине в голубом костюме, белой рубашке и широком темно‑бордовом галстуке. Его куртка Ангела Ада, покрытая экзотическими эмблемами, была водружена на специальную подставку у подножия гроба. Сзади нее лежали четырнадцать венков, на некоторых из них были написаны названия других outlaw‑клубов. Я с трудом узнал Майлза. Он выглядел моложе своих двадцати девяти и стал похожим на самого обычного человека. Лицо его было отмечено удивительным спокойствием, как будто «Матушку» совершенно не удивляло, что лежит он в этом деревянном ящике. Майлзу бы точно не понравилась та одежда, в которую его облекли по такому печальному случаю, но поскольку сами Ангелы не оплачивали похороны, то лучшее, что они могли сделать, так это обеспечить попадание куртки с «цветами» в гроб до того как его закроют крышкой навсегда. Баргер стоял рядом с людьми из похоронной команды, чтобы проследить за их действиями и гарантировать, что все будет сделано как надо. После службы более двухсот мотоциклов сопровождали катафалк на кладбище. Позади Ангелов ехали все другие клубы, включая полдюжины «Драконов» из Ист Бэй, и, по словам радио‑комментатора, «десятки райдеров‑подростков, с такими мрачно‑торжественными лицами, что можно было подумать — только что на тот свет отправился сам Робин Гуд». Ангелы Ада врубались получше. Не все они, конечно, читали о Робин Гуде, но интуитивно понимали, что такая параллель делала им честь. Возможно, молодые «отверженные» действительно верили в это, и у них в душе еще оставалось местечко для парочки красивых иллюзий. Те, кому было около тридцати или тридцать с хвостиком, слишком долго прожили, сроднившись со своим презренным имиджем, чтобы думать о себе как о героях. Они дают себе отчет в том, что герои — всегда «хорошие чуваки», и они видели достаточно ковбойских фильмов, чтобы понимать, что «хорошие чуваки» в конце обязательно побеждают. В таком мифе, похоже, для «Матушки» Майлза не нашлось места, а ведь он был «одним из лучших». Все, чего он удостоился в конце, — две сломанные ноги, проломленная голова и несусветное пиздобольство священника. Только его принадлежность к Ангелам Ада спасла Майлза от тихого и почти анонимного попадания в могилу, подобно любому замшелому клерку. А в итоге его похоронам было посвящено множество репортажей в национальной прессе: Life поместил фотографию процессии, входящей на территорию кладбища; в телевизионных новостях похоронам отвели почетное первое место, а заголовок в Chronicle гласил: «АНГЕЛЫ АДА ХОРОНЯТ ОДНОГО ИЗ СВОИХ — ЧЕРНЫЕ КУРТКИ И ЭКСЦЕНТРИЧНОЕ ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА». «Матушка» Майлз мог быть доволен. Сразу же после погребения караван мотоциклистов покинул город в сопровождении эскорта фаланги полицейских машин с включенными сиренами. Уже на окраине Ангелы послали всех и вся на три заветных буквы, и умчались назад к Ричмонду, через Залив от Сан‑Франциско, где бузили всю ночь без продыху, а весь следующий день держали на пределе нервного срыва славных блюстителей порядка. В воскресенье вечером в Окленде состоялось собрание, на котором утверждалась кандидатура преемника Майлза — Большого Эла. Процедура назначения прошла спокойно, без всякого налета похоронной мрачности. Стенания привидений‑плакальщиц, столь громкие в четверг, уже стихли и никого не беспокоили. После собрания в грешном клубе «Синнерз» была устроена пивная вечеринка, и к моменту закрытия заведения они успели договориться о дате следующего пробега. Ангелы соберутся в Бейкерсфилде, в первый день весны.
«Всю жизнь моя душа искала нечто, чему названья дать я не могу» (Запавшая в память строка из одного давно забытого стихотворения).
Месяц проходил за месяцем, с Ангелами теперь я виделся редко, хотя в качестве «ангельского» наследства у меня все еще оставалась большая машина — четыреста фунтов хрома и грохота, покрашенных насыщенной красной краской… и на ней можно было сорваться вдоль прибрежного хайвея и почувствовать себя свободным и неприкаянным в три утра, когда все копы занимали глухую оборону на 101‑м. Я практически полностью разбил свой байк в первой же аварии, так что на его восстановление ушло довольно много времени. После этого я решил ездить совсем по‑другому — перестал испытывать судьбу на крутых виражах, не расставался со шлемом и пытался не превышать скорость… моя страховка была уже аннулирована, а водительские права дышали на ладан. И поэтому все и всегда происходило исключительно ночью, когда я, подобно оборотню, выводил свое чудовище из стойла для совершения бескомпромиссного пробега вниз по побережью. Я мог стартануть в Парке Золотых Ворот, планируя заложить лишь несколько зубодробительных виражей для очистки собственных мозгов от ненужного шлака… но всего за несколько минут я уже оказывался на пляже, и рев мотора закладывал уши… на вздымающейся волне к небу летел серфер, и прекрасная пустынная дорога разворачивалась лентой вниз, к Санта Круз… и ни одной бензоколонки на протяжении всех шестидесяти миль. Ни одной! Единственное доказательство того, что цивилизованный мир все‑таки существует, — ночная забегаловка неподалеку от Рокауэй Бич. В такие ночи даже упоминание о шлеме казалось кощунством, стирались все ограничения скорости, — и никаких притормаживаний на поворотах. Свобода, которой так недолго можно было наслаждаться в Парке, была сродни тому самому злополучному стакану, окончательно сшибающему с копыт качающегося алкоголика. Я мог подъехать к Парку со стороны футбольного поля, и притормаживал на мгновение у светофора в полном изумлении, если неожиданно видел чью‑нибудь знакомую физиономию на полночном перекрестке. Затем — на первую скорость, забывая о машинах и позволяя своему зверю нестись быстрее ветра… тридцать пять, сорок пять… потом — на вторую, и проскочить на светофор на Линкольн Уэй, не беспокоясь, какой свет горит — красный или зеленый… один… за исключением разве что какого‑нибудь другого безумного оборотня, который тоже вырвался на свободу и начал свой собственный пробег… но слишком медленно. Остается не так много… всего три полосы на широком повороте, и для тяжело едущего байка достаточно места, чтобы обогнать почти все, что движется… затем — на третью, шумную скорость, выжимая семьдесят пять, ветер уже не просто свистит в ушах, а вопит, и давление на зрачки такое, как будто ты нырнул в воду с высокого борта корабля. Устремив свой взор вперед, откинувшись на сиденье, мертвой хваткой вцепляешься в руль, когда байк начинает подпрыгивать и вибрировать на ветру. Чьи‑то задние фары, светящие далеко впереди, приближаются все быстрее и быстрее, и неожиданно —шшшшшшш — проносятся мимо и сворачивают вниз к повороту рядом с зоопарком, где дорога выходит к морю. Дюны здесь более плоские, и в ветренные дни песок задувает через хайвей, образуя солидные наносы, такие же смертельно опасные, как и любая масляная пленка… моментальная потеря контроля, крушение, катишься кубарем… и на следующий день можешь попасть в крохотную газетную заметку: «Неопознанный до сих пор мотоциклист погиб прошлой ночью, не вписавшись в поворот на Хайвее 1». Недурно… но никакого песка на этот раз, так что рычаг идет на четвертую, и теперь уже никакого звукового сопровождения, за исключением все того же свиста неутомимого ветра. Сморщившись, потянувшись через руль, чтобы поднять луч света передней фары… стрелка пляшет на отметке «сто», уходит вправо, и глаза, словно ошпаренные ветром, с трудом стараются разглядеть разделительную полосу пытаясь установить для себя предел, за которым на нормальные человеческие рефлексы уже рассчитывать не стоит. Но вот в глотке пересыхает, и скудный запас прочности собственных нервов на исходе, а право на ошибку у тебя отобрала дорога. Все должно быть сделано правильно… и вот тогда начинает звучать странная музыка, и ты искушаешь свою судьбу так сильно, что страх превращается в приятное возбуждение, которое разливается по жилам и заставляет твои руки вибрировать… На скорости сто миль в час ты почти ничего не видишь; слезы сдувает так быстро, что они испаряются еще до того, как по косой попадут тебе в уши. Единственные звуки — свист ветра и глухой рев, вырывающийся из глушителя. Ты видишь белую полосу и дерзаешь… с воем несясь через поворот направо, затем — налево и… вниз с высокого холма к Тихому Океану…. Резко осадив, высматривая легавых, но это — пока не доберешься до ближайшего неосвещенного участка, и следующие несколько секунд уже летишь на пределе … Предел… Нет достойного способа объяснить, что Это такое, потому что единственные люди, которые по‑настоящему понимают, в чем Он заключается, где Он лежит, — уже сгинули. Их нет. Другие — живые — те, кто начинали манипулировать умением контролировать себя, как только чувствовали, что смогут достичь Его, а потом… либо резко поворачивали назад, либо сбавляли обороты, либо делали все, что должны делать люди, когда приходит время выбирать между Сейчас и Потом. Но пока Предел все еще где‑то Там. Или, может быть, Он уже Здесь, Внутри… Ассоциации, возникающие между мотоциклами и ЛСД, — это не случайный момент, порожденный газетной шумихой. И то, и другое — средство достижения цели, способ добраться до того места, где расставлены все точки над "i"…
ПОСТСКРИПТУМ
В День труда в 1966 году, я решил подвергнуть свою судьбу еще большему риску, и был зверски избит четырьмя или пятью Ангелами, которые, наверное, решили, что я хочу поживиться за их счет. Пустячная ссора неожиданно переросла в очень серьезное недоразумение. Никто из тех, кто меня отделал, не принадлежал к той компании, которую я считал своими друзьями, но они были Ангелами, и этого было достаточно, чтобы побудить многих ввязаться в разборку, как только один из братков нанес мне первый удар. Меня ударили ни с того ни с сего, без всякого предупреждения, и я на мгновение подумал, что происходит один из тех пьяных инцидентов, с которыми человеку приходится смириться, пребывая в подобном окружении. Но тут же сзади меня ударил Ангел, с которым я разговаривал всего лишь несколько секунд назад. Затем на меня обрушился впечатляющий град ударов со всех сторон. Когда я падал, то успел поймать взгляд Тайни, стоявшего в стороне от нашей свалки. Он был единственным знакомым мне человеком, лицо которого я мог разглядеть… и если и есть кто‑то, кого не‑Ангел не хотел бы видеть среди напавших на него, так этот кто‑то и есть Тайни. Я позвал его на помощь, но сделал это скорее от отчаяния. Особой надежды на то, что он выступит на моей стороне, честно говоря, не было. Но именно Тайни выдернул меня из круга избивавших, до того как мне проломили череп и превратили в кровавое месиво мой пах. Тяжелые сапоги лупили по моим ребрам и проходились по моей голове взад и вперед, как где‑то надо мной я неожиданно услышал голос Тайни: «Ладно, ладно, хватит». Думаю, он помог мне гораздо больше, чем мне казалось тогда, но, даже если бы он вообще больше ничего не сделал, я все равно был бы перед ним в неоплатном долгу — он помешал одному из «отверженных» разбить о мою голову тяжелый камень. Я уже видел, как злобная свинья пытается добраться до меня с камнем, зажатым в годзиллообразных лапах, поднятых над головой. К счастью, Тайни сумел удержать его… и затем в момент временной передышки в этой грубой работе сапог, он поставил меня на ноги и быстро поволок по направлению к хайвею. Никто не бросился за нами вдогонку. Нападение закончилось так же внезапно, как и началось. Не было и никаких шумных последствий — ни сразу же после драки, ни позже. Я и не думал, что эта история будет иметь какое‑то продолжение: это было бы равносильно ожиданию от стаи акул объяснений их кровожадного неистовства. Я забрался в свою машину и поспешил убраться прочь, заливая кровью приборную доску и беспорядочно петляя по обеим полосам полночного хайвея, пока наконец я не напрягся и не смог сфокусировать взгляд моего здорового глаза. Далеко отъехать я не успел, когда до меня дошло, что на заднем сиденье спит Маго. Я съехал на обочину и разбудил его. Его аж подбросило при виде моего окровавленного лица. «Господи Иисусе! — пробормотал он. — Кто‑то наехал на нас? Ты должен был меня разбудить!» «Не бери в голову, — сказал я. — Тебе лучше вылезти. Я уезжаю». Он безучастно кивнул, и пошатываясь побрел вперед, дабы достойно встретиться с врагом — лицом к лицу. Я оставил его стоящим на обочине дороги. Моей следующей остановкой был госпиталь в Санта‑Росе, почти в пятнадцати милях к югу от лагеря Ангелов. В предбаннике отделения скорой помощи толпились раненные представители «Цыганского Жулья». Самым серьезным случаем оказалась сломанная челюсть — результат драки с махавшим трубой Ангелом Ада, случившейся тем же вечером, но чуть раньше. «Жулье» поведали мне, что они направляются на север вырубать Ангелов под корень. «Это будет чертовская бойня», — сказал один из них. Я кивнул головой и пожелал им удачи. Мне не хотелось ни под каким видом принимать в этом участие — даже с дробовиком в руках. Я был уставший, распухший и измудоханный. Мое лицо выглядело так, словно его помял рванувший с места «харлей», и единственное, что заставляло меня бодрствовать, — спастическая боль в сломанном ребре. Трип получился неважнецкий… в какие‑то моменты быстрый и дикий, в какие‑то — медленный и грязный, но при всех своих плюсах и минусах он выглядел настоящей подлючей кайфоломкой. На обратном пути в Сан‑Франциско я пытался сочинить эпитафию, соответствующую этому случаю. Хотелось придумать что‑нибудь оригинальное, но было невозможно отделаться от фразы Мисты Куртца, эхом звучащей из самого сердца тьмы: «Ужас! Ужас!.. Истребляйте всех скотов!». Именно эти слова казались подходящими, пускай и не совсем справедливыми… но после такого лютого пинка под зад, полученного мной от Реальности, справедливость беспокоила меня меньше всего.
[1] т.е. по словам полицейских
[2] «Индустриальные рабочие мира» или «уобблиз» ( Wobblies), — мощный профсоюз анархо‑синдикалистского толка, созданный в США в конце 19 века и объединявший многие тысячи рабочих. Американские власти видели в этом профсоюзе реальную угрозу и активно боролись с ним, привлекая на свою сторону и членов местных комитетов безопасности (виджиланте). В 20‑х годах двадцатого века боевой профсоюз был ликвидирован, в конце 60‑х возродился вновь, но в настоящее время особого интереса его деятельность не представляет.
[3] Он завершился тем, что присяжные не смогли придти к консенсусу, и в итоге обвинение было изменено на «избиения смертельно опасным оружием» — согласно этому обвинению Баргер был признан виновным и отсидел в тюрьме шесть месяцев.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля