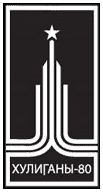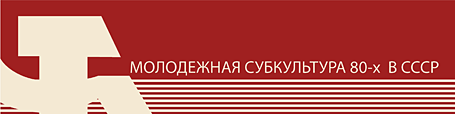

Группы
|
Неформальные группы
Москва, будучи режимным закрытым городом, всегда держала наизготовку свою социальную мясорубку, в которой время от времени проворачивала новую порцию человеческого фарша, постоянно оседающего в черте города. Не считая военного периода, более серьезные потрясения город претерпел в 50-е, когда был разбавлен тысячами заселяющихся метростроевцев. Позднее, когда в город разрешили заселяться в рамках рабочего лимита, помимо пятиэтажных серо-зеленых «метрогородков», в городе появились районы, за глаза считавшиеся лимитческими и национальными. К примеру, удаленная Марьина Роща и Богородское, или считавшиеся татарскими районы Проспекта мира и Новокузнецкая. Но, несмотря на подобное обновление в этническом плане, представленное татарскими диаспорами и украинскими «специалистами», к 70-м сложились зоны и сферы влияния, которые легко можно было бы определить по сфере услуг. Часовое и ювелирное «дело» делили армяне (отдельные представители которых блистали на скорняжьем производстве балетной обуви и присутствовали в «ремонте обуви» и продуктовых рынках) и евреи (за которыми также закрепилась консерватория и управленческо-торговая ниша и организационная работа в советской эстраде), чистку обуви – ассирийцы, грузины – доставку фруктов и гвоздик, плюс к этому они трудились в юридической сфере, прогуливая барыши в ресторане «Арагви»; татары (как сейчас среднеазиаты) в массе работали на привокзальных площадях, милиции и в дворницких, постепенно вторгаясь в торговую нишу, где уже прибывало в количестве украинцев. Азербайджанская и узбекская диаспоры присутствовали на рынках, но практически не были заметны в городе, предпочитая укромные кафе-рестораны «Аист», «Белые ночи», рестораны «Узбекистан» и «Молдавия». Немногочисленная чеченская диаспора тоже присутствовала, но на вид попала только в 85 году при криминальных разборках и дележе московских речных портов, через которые доставлялись автомобили с ВАЗа. До этого момента, как и дагестанская диаспора, занималась доставкой и разведением осетровых рыб в подмосковных прудах. Все это явление, несмотря на свою социальную значимость, было в достаточной степени растворено в массе трудящихся и не особо отсвечивало, тем более в прессе. Но... УРЕЛА И ГОПНИКИ В период очередной городской застройки и расселения городских центров (в то время еще закрытой режимной Москвы) это социальное болото было взорвано перемещением московских семей в новые застраивающиеся районы. Заселение приводило к новым видам подростковых коммуникаций, идентифицирующих себя в рамках двора, каких-то местных заведений и района, и параллельно в рамках школ, профтехучилищ и институтов. Но районо-дворовые связи были на порядок крепче институционных, потому как основывались на простейших жизненных интересах, связанных неписаными правилами улиц и складывающихся субкультурных сообществ разного типа. Развитие этих районных коммуникаций напрямую зависело от местного ландшафта, но в целом было одинаковым для таких районов, как Тушино, Кунцево, Орехово, Бибирево, Гольяново, Перово, Отрадное, и в районе ст. м. «Войковская». А коммуникативность новостроечной молодежи соответственно уменьшалась пропорционально застройкам и удаленности от центра вместе с количеством дворовых компаний. В этом плане наиболее активными выступали экспериментальные микрорайоны, такие как Гольяново, волею судеб построенное на месте выселок, к которым прибавились метростроевские трущобы, расселенцы с Садового кольца и кооперативные застройки от различных ведомств. Адская и гремучая смесь, аналогичная Тушинской (половина которого было также застроено новыми домами), Бибиревской и более поздним Отрадненской, Чертановской, Молодежной и Юго-Запада Москвы, которые на обсуждаемый момент только-только застраивались. Стоит отметить, что в двориках и подворотнях старых районов Москвы, Таганке, Кузне, ВДНХ, Сокольниках, Марьиной роще, Самотеке и центрах, все оставалось без изменений на фоне массового оттока переселенцев в период с 72-го и по нынешние времена. Центр режимной столицы был попросту зачищен, наполнился звенящей пустотой и запахом свежеуложенного асфальта, пополняясь разгуливающим населением только в районах крупных универмагов и по праздникам. Любое же хулиганство (даже пресловутое безбилетное хамство и пьяные драки возле «трех ступенек») в центральном округе вызывало облако пыли и слухов, не говоря уже о проделках волосатых и не очень падонков, собиравшихся в пивных местах на Остоженке, Пушке, Арбате. На этом фоне даже загулы мажорно-богемной молодежи и фарцовщиков-утюгов в центральных и загородных кафе и ресторанах носили откровенно вызывающий характер по отношению и к населению спальных районов, и даже ко вполне зажиточным безнадежно трудящимся, годами копившим средства на покупку мебельных стенок или личного автотранспорта. Отдельными анклавами в этом социальном месиве держались «лимитчики», жители метростроевских трущоб и общежитий, иногда носившие ярко выраженный этнический оттенок. Как азербайджанская «диаспора» Гольяново, «мордва» Сокольников и Богородского и «армяне» Бауманских общежитий. В Питере в этом плане еще с 70-х наиболее известным было ГОП (городское общежитие пролетариата), давшее название целой субкультуре «гопников», позднее интерполировавшееся на всю страну. А ситуация на застраивающихся районах, подобно московской, наиболее явно наблюдалась и на примерах Купчино и Васильевского острова, застроенного в предолимпийский период. Сама «гоп-культура», по большому счету, представляла из себя производное проблемы молодежного досуга. Когда детские дворовые компании прогрессировали в подростковые, незначительно пополняясь в школьный период, и вливались в полукриминальный быт подвалов, где подростки нюхали клей и толуол, который нещадно тащили из магазинов и прачечных. Там же в подвалах развивался и другой феномен – подпольный культуризм, не менее щедро поставлявший кадры в криминальные структуры. Путь от школьных задворков до подобных образований был достаточно короток в силу абсолютной неперспективности «проблемной молодежи» в сложившихся социальных условиях. Единственным альтернативным времяпровождением были различные кружки и спортплощадки в виде дворовых «коробочек» и пионерские лагеря, куда скидывали своих отпрысков на лето различные советские трудящиеся. Но, постепенно взрослея, социальная обеспеченность исчерпывалась, и расслоение на «благополучных» и «неблагополучных» подростков обнажалось еще в школьный период. После получения незаконченного среднего образования это расслоение становилось неизбежным, когда становилось понятным, кто из учащихся будет продолжать существование в рамках высших вузов, а кто в системе ПТУ, считавшейся малопрестижной, вплоть до того что подобной перспективой откровенно угрожали как родители, так и учителя. Отторгнутая от «перспективной» части сообществ еще на этом уровне молодежная масса обосабливалась и культивировала собственную общность со своим сленгом, дресс-кодом, выражавшимся в кирзовых сапогах и телогрейках, и, что не менее важно, уличным кодексом поведения, иерархии и взаимоотношений. Все это в недалеком будущем отразится на многих уже меломанах и студентах, к которым гоп-культура была настроена достаточно агрессивно. Наиболее активные представители этой среды, опутанные приводами в различные контролирующие инстанции, овеянные героикой дворовой романтики и вниманием женских особей, активно пополняли взрослые полукриминальные сообщества, базирующиеся в различных питейных заведениях и на откровенных уголовных малинах. В данном случае районные коммуникации «старшака» выглядели как «пьяные столики» во дворах и алкогольная мафия, бравшая пойло без очереди за два лишних пива или «двушник» сверху и отчасти контролировавшая подпольную торговлю алкоголем. Пивные точки делились на кафе ресторанного типа, как «Саяны» и «Жигули», «стояки» типа бара в Алешкино и автопоилки, из которых наиболее знаменитыми были пивняки на Тверской-Ямской, Трубной площади, Остоженке, Проспекте мира и в Столешниковом переулке. Это не считая иных местных забегаловок, алкогольных беседок и шахматных площадок в парках, где резались в домино и шахматы на деньги ветераны и отставные инженеры. Этих «точек» хватало даже в период «сухого закона». Отдельной коммуникацией выступали таксисты со своей системой перемещения по городу и автопаркам, где можно было заправиться бензином и алкоголем из-под полы круглосуточно в течение всех 80-х. Достаточно часто, поломав себе карьеру и судьбу, подобные повзрослевшие хулиганы, влившиеся в «мир взрослых», утаскивали вслед за собой свой круг общения. И никто не знает точно, но, возможно, не без помощи комсомольских работников, отставных военных и субкультур 70-х еще в предыдущее десятилетие сформировалось фанатское движение, альтернативно гопнической волне, захлестнувшее столицы с введением институции профтехучилищ. Профтехучилища в недалеком будущем станут рассадником металлизма как наиболее близкого и достаточно радикального проявления. Но на период 80-84 годов иных альтернатив, чем уголовная и фанатская среда, у «неперспективной», уже многотысячной группы молодежи практически не существовало. При этом весь этот городской срез именовался «системным» хипстерским людом как «урла» (простой народ), а агрессивная его часть – «гопниками», после воцерковления этого термина Майком Науменко в своей песне «Гопники – они мешают нам жить». В конце семидесятых с южных пляжей и пионерских лагерей в столицы перекочевало новшество в виде дискотек, которые начали плодиться как грибы после дождя, сменяя парковые танцы и концерты. И это было начало новой вехи городских коммуникаций. Когда и так совершавшие периодические выезды в центр гопники и урела получили дополнительный импульс для развития собственных коммуникаций, выезжая целенаправленно в центральные зоны «отдыха и досуга» советских трудящихся или совершая набеги на дискотеки соседствующих районов. Подмосковные же и удаленно-районные хулиганские коммуникации носили более выраженный криминальный характер в силу переноса городской границы застроек на бывшие отметки 101 км от центра, куда высылали неблагонадежных и где располагались ЛТП. Подобное происходило и на Васильевском острове Ленинграда, где на месте бараков был скоротечно отстроен предолимпийский район, и в пресловутом Купчино, которое, как и Гольяново, Тушино или Сокольники, строилось на месте выселок и уголовных малин. НАДРАЙОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ Периодически дворовые компании совершали выезды в центральные районы, но вплоть до начала 80-х это были почти что антропологические исследования большого города. С началом последнего десятилетия СССР выезды в центр, дабы «себя показать» и с «центровыми» схлестнуться, стали принимать постоянный характер. Но бурно стартовавшее в этот же период фанатское движение повело это явление уже в другом ключе. По сути являясь первой надрайонной некриминальной коммуникацией, фанатство объединяло достаточно широкие слои городской молодежи, собиравшиеся во время проведения матчей сначала сотнями, а к концу десятилетия уже тысячами. Эта форма почти субкультурного времяпровождения, требовавшая определенных познаний, дресс-кода и авторитета. Мощный приток фанатизма пришелся на 82 год, и немалую роль в этих событиях, как и во все времена, сыграло «длинное ухо» – городская молва. Трагические события на стадионе «Лужники» приковали внимание подростков, и ряды фанатов стремительно приумножились, породив первое разделение на районных болельщиков и «правых фанов», элитой движения совершавших рейды в другие города и в столичный центр, сея по маршруту прохождения шутками и мелкими актами вандализма, порой перераставшими в крупные. Как, например, переворачивание троллейбуса в самом центре города. Или погромы в поездах по пути следования на иногородние стадионы. Выездные спартаковские фанаты породили подобное явление у других клубов, из которых можно было бы выделить коней, зенитчиков (иногда называемых «мешки» или «бомжи» из-за холщовых сумок с которыми они приезжали , в 84 м году оснастившихся первыми модными советскими полиэтиленовыми пакетами с клубной символикой, нанесенной в честь победы Зенита ) и «хохлов» – местные группы поддержки Украины (Киев, Донецк, Днепропетровск). Были фанаты и в других городах, к примеру, у тбилисского «Динамо», но какими-то выездами не отмеченные. К середине 80-х «фанатизмом» обросли практически все команды высшего и первого дивизионов, а группы болельщиков, сложившиеся в полноценные многотысячные субкультуры, из-за своего буйного поведения попали под социальный прессинг и преследования со стороны милиции. Криминальные сообщества столицы тоже насчитывали не одну тысячу человек за счет рекрутов-гопников, старорежимников и спортбригад нового типа, активно завоевывающих городское пространство в середине 80-х. Общий счет районной криминализировавшейся гопоты здесь тоже шел на сотни, в отличие от подпольных спортсменов и культуристов, которых было не более 100 человек на город, что, в принципе, показали первые всесоюзные фестивали первой половины 80-х. Но открытость этих коммуникаций, которых объединяли улицы, часто приводила к тому, что представители отдельных групп перетекали из одного пласта в иной. Как судьба сложится. Но так или иначе – эта среда «городских низов», опираясь на свой потенциал и желание противопоставиться более успешным классам, как ни странно, успешно с этой задачей справлялась. Будучи социально активными, не закомплексованными, представители низов в период распада советского общества и системы ПТУ, окончательно наступившего в перестроечный период и предоставившего подросткам огромное количество свободного времени, показали гораздо большую прыть и предприимчивость, чем те слои советской интеллигенции, которые, единовременно презирая «неблагополучных», пытались их «разбудить» и поучать. Романтика же и бешеный хулиганский драйв в то же время делали районные коммуникации привлекательными и для детей «благополучных» семей, которые часто предпочитали общаться с хулиганами, чем с людьми своего круга. О чем в преуспевающей части общества бытовало универсальное определение отбившимся от рук «комнатным растениям» – связался с плохой компанией.
|
| 1 2 3 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля