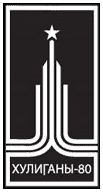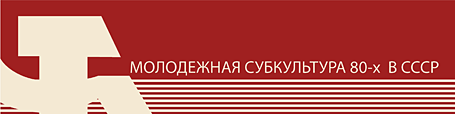

Роллинз Генри.Железо.
|
... Мы с Иэном отправились покататься на машине. Переехали Ки-бридж, по которому я обычно ходил домой с работы. Проехали по М-стрит. Проехали и по Р-стрит, мимо места, где черный хлыщ стукнул меня головой о стену дома и за¬брал мой плейер, мимо места, где та собака посмотрела мне в глаза и через долю секунды попала под колеса автомоби¬ля, забрызгав кровью мои ботинки. Мимо квартала, где де¬вушка-хиппи украсила мои волосы цветами, пока мужики - ее компаньоны - переворачивали машины. Мимо Монтроуз-парка. Мимо Школы Джексона, куда я ходил в первый, второй и третий класс и где меня били и надо мной издева¬лись, потому что я был белым в 1969 году. Меня обвиняли в смерти Мартина Лютера Кинга. У меня в ушах до сих пор стоит их хор: «Бей, бей, белых не жалей, вмажь ему, ниггер, вмажь ему, ниггер, чтобы он копыта откинул поскорей!» Я до сих пор помню, как у меня крутило живот и сыпались ис¬кры из глаз. По Тридцатой улице, по Кью-стрит, мимо моей старой автобусной остановки, мимо квартиры, где белого мальчика изнасиловали и заставили играть в гнусные игры с черным ублюдком. Снова по Висконсин-авеню, мимо «7-11», мимо библиотеки, мимо «Сэйфуэя». Мы едем дальше и останавливаемся возле дома родителей Иэна. Припарковываем машину и идем гулять по Вискон¬син-авеню. Иэн идет в банк; я отхожу недалеко - к зданию, где когда-то был мой любимый магазин, там я работал несколько лет. Теперь в этом здании ресторан. Я обхожу вокруг дома/чтобы посмотреть на заднюю лестницу, по ко¬торой несколько лет ходил вверх-вниз, вынося мусор. Сту¬пеньки, на которых я присаживался пообедать. Ступеньки, на которых я уничтожал помет больных животных. Знаете, всяких там кошек, кроликов. Люди приходили со своими больными зверушками, просили усыпить их. Конечно, у нас не было оборудования для этих целей. Что не волновало моего босса. Он брал деньги, а я брал животных, уносил на заднюю лестницу и убивал. Некоторым лихо сворачивал шеи. Других брал и бил головой о деревянные перила. Бы¬стрым и плавным движением. Обычно, когда я шел домой, все мои башмаки были в крови. Ступеньки черного хода. Один раз я пошел выносить мусор и увидел парня, которо¬му отсасывала стриптизерша из соседнего бара. Я возвра¬щаюсь по переулку и вновь выхожу на улицу. Я озираюсь: почти все здания в квартале снесены. Прохожу мимо ресто¬рана и заглядываю внутрь. Семейство хорошо одетых лю¬дей сидит за столом, они поднимают головы и видят меня, у них чуть глаза не выпадают. Я отступаю от стекла, иду об¬ратно по Висконсин-авеню к банку. Думаю об этом семей¬стве: как они ужинают, как их ноги постукивают по полу. Полу, который служил крышей самой большой колонии крыс на свете. Этот дом кишел крысами, крысиное дерьмо повсюду. Целые кучи его гнили между всеми балками. Кры¬синое гетто в миниатюре. Над залом, где семья ужинает, - комната, где мой босс имел обыкновение трахать своих дружков. Однажды он пожаловался мне, как трудно отсти¬рать вазелин от простыней. Кушайте, леди, крысы шныряют, скребутся и срут под вами. Невротичные гомики ебутся и стонут над вами. Вы окруже¬ны, завалены дерьмом, потом и вазелином, ешьте с аппети¬том, спите крепко. Это так противоестественно, такое извра¬щение, что я затворился в собственном доме. Я смотрю на себя, смотрящего на себя, изнанка на изнанку, выворачива¬ясь наизнанку и с подвывихом. Я хочу подождать, пока снова не возникнут привидения. Я увижу своего босса - он выйдет из задней стены, голый, его рвет, он воняет дерьмом, сетует на простыни и на то, «как дико ненавидит он черномазых в этом городе». Такова была одна из его навязчивых идей. У него была огромная псина, которую он выдрессировал тоже ненавидеть негров. Он говорил: «Тэннис, не хочешь ли слопать черномазого?» В воздухе теперь пахнет озоном. Я сижу в комнате с откры¬тым окном. Свежий воздух мягко, нежно втекает в комнату. Так нежно, что может запросто унести меня. Мне одиноко, если воздух пахнет озоном. Его запах напоминает мне вре¬мя одиночества, неизменно. Серый, прохладный и пустой, от него замыкаешься в себе. Я уже бывал на этом подокон¬нике. Я не прыгнул, у меня кишка тонка. Просто сидел на стуле и представлял, как мое тело летит вниз сквозь озон. Думая о девочках, думая о том, что это никогда не получает¬ся. Никогда. А затем подыхаешь или же просто засыпаешь... ... Я выхожу на улицу. Я слышу машин и людей, но не этого мне хочется. Я хочу услышать музыку джунглей. Здесь все изолга¬лось. Мне кажется, я понимаю разницу между грязью и мерзо¬стью. Грязь чистая, а мерзость - мерзкая, и так повсюду. Это режет глаз. У меня хватка лучше, чем у многих, кого я знаю. И если я сделаю усилие, я могу продержаться здесь. Но иногда меня что-то вынуждают, и мозги мои переходят на автопилот, мне хочется взбрыкнуть и войти прямо в их блистающие умы. Но ты же знаешь, что ничего не выйдет. Их сознания никому не затронуть. Все равно что колотить по воздуху. Если не хо¬чешь отступаться, с таким же успехом можешь двинуться по той же прямой в их плоть. Ты понимаешь, о чем я. С улыбкой на лице говори на международном языке: грязь и мерзость. ... Шум входит, вытесняя меня из мозгов. Сначала детский смех мешается с дождем. Смех постепенно затихает и сменяется грохотом артиллерийских орудий. Грохот орудий остается неизменным, а дождь затихает. Теперь я слышу людей, они разговаривают, смеются, кричат, плачут. Как тогда - когда я лежал в больнице. Всю ночь они орали, требовали ле¬карств, хотели поправиться. Старушка в соседней палате во¬пила так, словно ее поджаривали живьем. Вся больница кричала. Я уже думал, что я потеряю рассудок. В ней, или вне ее, я больше не вижу разницы. Звук, я не могу заглу¬шить звук их голосов. Когда я совсем один у себя в комнате, в ушах все равно звучат их голоса, их крик. Я знаю, что сам виноват в том, что впустил их. Я сам хочу поправиться. Я ни от чего не убегаю, я просто пытаюсь освободиться от этих звуков. Если не выйдет, я привыкну к ним, и мне придет ко¬нец. Дождь барабанит по ящикам с покойниками. Дождь ме¬шается с мертвыми детьми. Что я вижу, что я слышу. Вся эта больница - дурдом. Вопящая сральня. Орудийный огонь где-то вдали. Тела падают, кричат, пытаются выздороветь, сделать хоть что-то, лишь бы поправиться. И ты знаешь, как ужасно ощущать пустоту, когда ты полон ею. Они наполняют тебя пустотой, а потом приходят требовать оплаты. Они хо¬тят оплаты, но не хотят того, что им светит. Это никогда не подводит. Мои слабости всегда достаточно сильны, чтобы сшибить меня наземь. Мои слабости - силь¬нейшие орудия, что я могу обратить на себя. Не всегда будет так. С каждым днем мне становится лучше. Может, однажды я не захочу, я не буду таким сопляком. Это все - один боль¬шой дурдом, вопящая сральня. Дети бормочут, а похоже на стрельбу. На каждый голосок - пуля. На каждый крик, каждую мольбу, каждый день - пол¬ное уничтожение в стенах моей комнаты. ... План турпоездки фирмы «Поиск и Уничтожение», пункт 1: Организация развлекательных авиатуров во время войны. Отдыхающие, из тех, кто может себе это позволить, будут ле¬тать над местами ведения боев и иметь возможность сбрасы¬вать напалм и бомбы на сельских жителей. Могу себе пред¬ставить. Из счетверенных динамиков ревет вагнеровский «Полет Валькирий». Жирные белые туристы в спортивных костюмах из полиэфира и дурацких гавайских распашонках сидят в своих креслах, у каждого - личный пульт с кнопкой. — Теперь уже можно? - спрашивают они. Улыбающаяся стюардесса многозначительно подмигивает и говорит: — Скоро, очень скоро. — Но я хочу открыть огонь сейчас! Я хочу убивать сейчас! Я хочу уничтожать сейчас! Сейчас! - канючит толстый лы¬сеющий господин. — Успокойся, дорогой, - говорит его жена, - ты слышал, что сказала стюардесса? Скоро мы будем над полигоном. Слышишь музыку, дорогой, все уже начинается. Вскоре они обрушивают огонь на города внизу. Треп в само¬лете напоминает те, что можно услышать в удачный вечер на арене для бокса. Отдыхающие привозят домой фотографии и сувениры. Кое-кто фотографируется с обугленной расчле¬ненкой. Они улыбаются и показывают в камеру большой па¬лец. У некоторых на шее - связки человеческих ушей. Все женщины хотят сняться с капитаном. Люди будут возвра¬щаться домой со своими версиями того, сколько «чучмеков» они уложили, причем врут все безбожно. У каждого будет история о ком-то одном, кто сбежал. — Один из этих маленьких ублюдков спрятался на рисовом поле. Я так нажрался, там бесплатно дают такие огромные порции, что упустил его. А Мадж взорвала маленького суки¬на сына прямо в воде. Вот это женщина! ... Я привык считать, что красный, синий, зеленый и желтый - мои друзья. Какое-то время я думал, что если захочется, я смогу заставить эти линии ходить кругами. Теперь я поумнел. Мои друзья - черный, белый и прямая линия. В своей ком¬нате я свободен. Цвета вспыхивают, когда захотят. Линии сруливают, куда им угодно. Вне своей комнаты я не свобо¬ден, именно там черный и белый на моей стороне, а та пря¬мая линия - мое выбранное направление. Я знаю, как она действует на тебя. Я знаю, каково тебе от нее. У этого лезвия есть и другая сторона, ее я тоже знаю, и я устал играть с то¬бой в игры. Спасибо тебе за все дары. На днях верну. ... Больно отпускать. Временами кажется, чем упорнее пыта¬ешься держаться за что-то или кого-то, тем больше оно хо¬чет вырваться. Чувствуешь себя каким-то преступником от того, что чувствовал, желал. От того, что вынужден был же¬лать быть желанным. Тебя это пугает: ты думаешь, что твои чувства неправильные, и от этого чувствуешь себя малень¬ким, ведь так тяжело держать их в себе, когда выпустишь их, и они не вернутся. Остаешься таким одиноким, что и выра¬зить нельзя. Проклятье, это ни с чем не сравнить, правда? Я был в этой шкуре, ты тоже. Ты киваешь. ... Холод снаружи, холод внутри, запах сала и дезинфекции. Парни за стойкой, похоже, ненавидят всякого входящего. Это одно из твоих рабочих мест, и все это время ты твер¬дишь себе, что это лишь временно, пока не появится настоящее дело. Одно из мест, где, посмотрев на часы, можешь поклясться, что их стрелки не сдвинулись ни на секунду с тех пор, как ты посмотрел на них час назад. То место, где понимаешь, что уже пробыл здесь больше года. Конечно, ты ненавидишь его, но тебе тут уже не так плохо, как раньше. В мозгу ничего, кроме ненависти и способности принимать заказы. Но опять-таки: какого черта я вообще должен что-то говорить? По мне, так эти парни могут думать, что нет ни¬чего лучше, чем обслуживать компанию метадоновых тор¬говцев и шлюх. Никто ни в ком ничего не понимает. ... Этикетки пластинок. Почему не этикетки на бутылках кира? К примеру, этикетка приблизительно с такой надписью: «Предупреждение: употребление этого продукта может вы¬звать рвоту, туман в глазах, потерю контроля, потерю памя¬ти, сильные головные боли, сухость во рту. Длительное упо¬требление этого продукта может привести к зависимости. Длительное употребление этого продукта может привести к утрате уверенности в себе. Длительное употребление это¬го продукта может привести к полной потере самоуважения. Длительное употребление этого продукта приводит к разру¬шению души». ... Я понял, что это значит для меня. Ничего. Я ничего не вижу. У меня есть лишь то, у чего можно учиться, и те силы, кото¬рые можно постичь. Мой мозг теперь настроен на другую волну. Имена, лица, я не помню их. Они ничего не значат. Все больше и больше, день за днем, я отрываюсь от них. От¬ветов нет, есть только множество вопросов. Нет, на фиг. У меня больше нет вопросов. Нет вопросов, нечего объяс¬нять. Я не могу говорить с ними. Они доказывали мне это снова и снова. Я привык считать, что могу разговаривать с ней, но иногда я просто не знаю. Иногда я говорю с ней, и мне кажется, что надо мной втихомолку смеются. Так мне было сегодня. Я держал в руке телефонную трубку и тупо смотрел на нее. В конце концов я просто повесил трубку и ушел. Эти телефонные будки - почти как гробы. Интерес¬но, в них кого-нибудь хоронят? ... Иногда я представляю себя парнем, уцепившимся за про¬пеллер, который вращается на полной скорости. Мое тело вертит и крутит, а я держусь за него изо всех сил. Меня тя¬нет дальше. Я в движении, но не контролирую его. Закрыв глаза, я вижу, как рвусь вперед на этом пропеллере, а он прорезает путь сквозь густой подлесок и кроны деревь¬ев. У пропеллера отлично получается. Мое тело искалечено, поскольку бьется о стволы, ветки и кусты. Мне нужно подружиться с машиной. Я должен понять эту силу, приручить ее и направить, чтобы она не волочила ме¬ня за собой. Мне нужно стать одним целым с машиной. Хва¬тит держаться за мартышкин хвост. Мне нужно залезть мар¬тышке на спину. ... Я вижу это в твоих глазах. Они влажные, как у собаки. Ты цепляешься за соломинку, чтобы не утонуть. Ты тянешь ру¬ки, хватаясь что-то прочное. Ты слаб и нищ. Тебе нужно за что-то держаться, чтобы у тебя был козел отпущения. Не тя¬ни ко мне руки. Я тоже тону. ... Возьми мое ничье тело и направь его к солнцу. Домой. От те¬бя я чувствую себя ямой. Я должен ее засыпать. Я заполняю ее землей. От тебя я чувствую себя ямой. Я распахиваю ок¬но и осматриваюсь. В ответ на меня смотрят убийцы. Убий¬цы гуляют на солнышке. Человек из грязной ямы. Где его от¬копали? Человек из грязной ямы. Проходите мимо. Мне вам нечего дать. Проходите мимо. Я закапываю себя. Я вруба¬юсь в себя. Я копаю себе яму один. Я не хочу никого в сво¬ей яме. APT И ШОК ДУШИ Первоначально я собирался назвать эту вещь «Я испепелю Поколение Пепси». Как я говорил во вступлении к «Писая в генофонд», эта книга была второй половиной одного здоровенного, выспреннего куска выстраданного самовыражения середины восьмидесятых. Читайте дальше, прошу вас. Поход в магазин. Когда я выхожу на свет божий, первой меня поражает вонь. Повсюду на траве собачье дерьмо. Я иду по улице и смотрю на всякую местную шелупонь, которая смо¬трит на меня. Я вынужден смотреть на них, ничего не могу тут подевать. Меня раздражает, когда они на меня пялятся. Мне хотелось бы отстрелить их маленькие головки. Я поворачи¬ваю на главную улицу и прохожу мимо центра планирования семьи. Обтрепанный уличный хлыщ смотрит на меня, машет мне и кивает головой, будто меня знает, и за таким непроше¬ным приветствием всегда следует просьба о мелочи. Я иду дальше. Повсюду бродяги и мусор, похоже, прошла какая-то низкопробная война. Солдаты-нищеброды. Потрепанные в боях, с налитыми кровью глазами, они бродят, спотыкаясь. Роются в мусоре, словно обыскивают трупы. Я иду дальше. Вывески магазинов, в основном - на испанском. Мексикан¬ские детишки бегают мимо, кричат, гоняются друг за другом. В одном парадном я вижу бродягу: от него так дико воняет, что запах чувствуется за десять футов. Пальцы у него желтые от сигарет. Я делаю вдох - все равно что пытаться вдохнуть камень. Кажется, мое дыхание просто остановилось, словно не хочет идти дальше. Я поворачиваю за угол, вхожу в мага¬зин и беру, что мне нужно. Дама в кассе спрашивает, как я по¬живаю, и я знаю, что на самом деле ей это не нужно, так что не отвечаю ничего. От таких людей мне всегда хочется кру¬шить. Я могу думать только об огнемете и уничтожении. Я вы¬хожу из магазина. С этой стороны торгового центра - оста¬новка автобусов, они высаживают пассажиров и берут новых. Жалких людишек всех мастей. У них такой вид, будто они едут на работу, у них всех такой опустошенный безнадежный вид. Готов спорить, чем дольше у них смена, тем больше они при¬шиблены. Я снова обхожу бродягу и снова ловлю этот запах. Отворачиваюсь к улице и вижу красивую девушку на велоси¬педе. У нее длинные светлые волосы и голубой топ; ее воло¬сы развеваются за спиной. Пока она едет, я опять смотрю на бродягу и опять на девушку - какой вид, какой кайф! Я иду в булочную купить буханку хлеба. Перед дверью выстроилась очередь. Я протискиваюсь внутрь и выбираю хлеб. Очередь состоит из двух разных групп - старых мексиканцев и ста¬рых евреев. У мексиканцев такой вид, будто они отработали ночную смену на самой дерьмовой работе в жизни. Они мол¬чаливы и терпеливо ждут. Евреи - очень словоохотливый народ, они беспрерывно болтают о том, какая длинная оче¬редь и как это странно в такой день недели. У них такой вид, будто они только-только сыграли в гольф где-нибудь в Майа¬ми. У мужчин штаны подтянуты выше талии. В конце концов я выхожу оттуда и двигаюсь к себе... ... Вам когда-нибудь приходило в голову, что ночь может быть голодной? Словно она хочет вас заглотить? У меня иногда бывает такое чувство. Я не хочу двигаться, потому что, если я шевельнусь, я не смогу остановиться и меня охватит какое-то сраное безумие, с которым я не справлюсь. Ночь, похоже, всегда тут, подстерегает, громоздится надо мной. Такое чув¬ство посещает меня ночью в этой комнате. Я хочу чего-то, но не знаю чего, я изолирован от всего, но в то же время мог бы, наверное, пройти прямо сквозь стену, если бы мне дей¬ствительно захотелось. Что бы я ни делал, я растрачиваю время, а надо бы заняться чем-то настоящим, вот только я не знаю, что это, к чертям собачьим, такое. Убеждаю себя, что вот-вот что-то начнется. Не знаю, что, но оно начнется... а оно все не начинается, да я и с самого начала знал, что не начнется. Но если я думаю о том, что нечто должно начать¬ся, я чувствую себя немножко живее. Иногда я вообще тако¬го не чувствую - жизни, я имею в виду. Иногда мне страст¬но хочется чего-то настолько большого, что оно величиной своей способно будет свалить меня с ног или сделать что-нибудь еще. Я сижу здесь и слышу весь этот шум и прочую срань снаружи, и мне интересно, мне ли это шумят, не хотят ли они мне что-то сказать. Я пристально вслушиваюсь. Я не хочу пропустить нужный звук. Какая тощища, но я не знаю, что именно тащится. Ночь - единственное постоянство. Но именно сейчас это не очень помогает. ... Я хотел, чтобы это стало реальным. Я хотел, чтобы это в кон¬це концов стало реальной дисциплиной. Дисциплиной, к ко¬торой я так хорошо подготовился. Мне нужно было что-то реальное. Я видел, как вокруг меня все распадается на кус¬ки, люди сдаются. Я спросил себя, сколько я собираюсь жить этой ложью, сколько я еще собираюсь подводить себя и обвинять кого-то другого. В конце концов, я пробился сквозь стену. Будто торчок протыкает зарубцевавшуюся ткань, не дающую ему замазаться. Будто зубами выгрызаешь себя из утробы. Меня убивает ложь. Недостаток дисципли¬ны. Я убивал себя и даже не видел этого. Я не мог чувство¬вать этого. Безболезненные дни кончились. ... Вчера вечером я ходил на концерт. Пошел помочь звукоопе¬ратору установить систему. Что за дерьмовые группы. Какое слабое оправдание для музыки. Я смотрел на толпу весь ве¬чер. Больше пойти было некуда. Я мог только сидеть там и слушать эту дрянь. Я не в состоянии подсчитать все мгно¬вения, когда мне хотелось взять огнемет и выпустить заряд в толпу. Я хотел испепелить всю эту грязь. Вот что это та¬кое - блядская грязь. За весь вечер, за исключением того, когда все ушли, мне понравилось только одно - пушки сви¬ней. Дубинки у них тоже были ничего. Нехило было бы вбить такую кому-нибудь из них в глотку. Концерт проходил в университете. Такие концерты - всегда посмешище. В колледжах меня всегда что-то раздражает. Наверное, все дело в этом идиотском познании. Вроде овец, которых гото¬вят к бойне. Когда я прохожу по холлам, студенты на меня всегда странно смотрят. Интересно, такие переживут войну на нашей территории - или хотя бы полдня в плохом райо¬не. Если какая-нибудь срань произойдет, держу пари, из них получатся хорошие военнопленные - терпеливые, покор¬ные. Когда я прохожу по коридорам таких университетов, я чувствую, что этих парней в самом деле имеют за деньги их родителей; я думаю, так и должно быть. Музыка, какая гадость. Все это так лживо. Группа, открывав¬шая концерт, называлась «Guns n'Roses», и они вчистую уб¬рали хедлайнеров - так, что этих даже стало жалко. Даже аплодисменты после выступления были фальшивыми, но это понятно. Публика и артисты идут рука об руку. Тоскливо то, что, похоже, именно такую музыку эти люди крутят у себя дома по вечерам. В каком говенном мире мы живем. Я был так рад, когда все, наконец, разошлись. С какой радостью мы грузили аппаратуру и сматывались оттуда. Кое-какая музыка могла бы стать ненадолго альтернативой, но если она хоть сколько-нибудь достойна, ее засасывает большой сценой, и тут-то с них перед всеми стаскивают шта¬ны. Если в группе и есть хоть что-то хорошее, ничто так его не растворяет, как небольшой успех. Большинство групп сейчас начинает с очень немногого. Альтернативные группы становятся полным говном, и никто их за это на стенку не вешает. Вот что самое смешное и вонючее в музыкальном бизнесе - все это срань, на любом уровне. Нужно просто найти кучу, которая лучше всего пахнет. Я предпочитаю делать то, что хочу, и не лезть под софиты с теми рожами, которые дерутся друг с другом за приз. Дав¬но исчезли те группы, которым действительно хотелось все уничтожить к ебеням. А этому месту нужно, чтобы его унич¬тожили... ... Черт, как мне нужен пистолет. От жары мозги прилипают к черепу. Хочется пить. Так хочется пить, что хоть на стену лезь, вонзая ногти в штукатурку. Хочется каблуком проло¬мить себе голову. Тогда хоть думать не буду. Ни хера не бу¬ду знать. Голая лампочка на потолке - вот мой мозг. Горя¬чий и пустой. Если бы стены можно было снести воплем. Но орать я не могу. Я едва могу пошевельнуться. Раскален¬ная тюрьма. Если я обхвачу себя руками покрепче, может, удастся сломать себе грудную клетку. Нет, мне отсюда не выбраться. Не выбраться из этой ночи. Не выбраться из это¬го мозга. Я заключен в своем мозгу. Тюрьма, сволочь, блядь, изувечу сам себя. Я - все ее преступники. Если б только можно было все как-то изменить. Если б можно было ды¬шать жизнью, а не только смертью. Тогда я мог бы отсюда выбраться безболезненнее прочих. У меня кишка тонка пой¬ти по твоей дорожке. ... У нас тут войнушка. Я как раз слышал сирену «скорой помо¬щи» за углом. Что произойдет сегодня ночью? Сынок спустит мамашу с лестницы? Папаша забьет жену до смерти теле¬фонным аппаратом? Мать забудет младенца, потому что нар¬котики были сегодня и впрямь хороши? Никогда этого не знаешь. Не знаешь и не узнаешь, если это не ты сам, а если это ты, то лучше тебе этого не знать. Может, завтра это слу¬чится со мной. Я охренею и пойду не по той стороне улицы, и тогда кто-нибудь преподаст мне урок, и «скорая помощь» приедет за мной, и я смогу ненадолго стать звездой. О, еще одна сирена. Срань господня, да они вылетают оттуда, как мухи. А завтра будет новый день. Складываешь свой обед в коричневый кулек, убеждаешься, что пистолет заряжен, и тащишься на работу. Ты боишься опоздать. ... Человек сидит в тюрьме, отбывая пожизненное. Он больше не хочет. Жить так, как он должен жить теперь, означает: ни женщин, ни безопасности, ни жизни, ничего. Просто си¬деть за решеткой остаток жизни, дожидаясь смерти. Он не хочет себе такого. Он хочет умереть, лучше смерть, чем бог знает сколько лет в дыре. Каждый день он ищет способы убить себя. После того, как он пытался повеситься на своих шнурках, вертухаи забрали у него все, что можно, чтобы он не смог этого сделать. Вертухаи любят, когда им попадается парень, который хочет умереть. Они знают, что ему невыра¬зимо больно, если в нем поддерживают жизнь. На его жизнь им наплевать, им в кайф все те страдания, которые они мо¬гут причинить человеку. Они гордятся собой, если человек может мучиться подольше. Они прекрасно знают, что в ка¬кой-то момент человек найдет способ убить себя. Вообрази¬те, что ищете смерти так же истово, как стремились бы к сво¬боде. Вы бы на все пошли! Только представьте, как вам хочется смерти. Представьте, что смерть - это свобода. Разве вам не стали бы ненавистны те, кто не пускает вас к смерти, к свободе. Всю ночь вы лежите, в постели совсем один, думая о смерти, как думали бы своей далекой возлюб¬ленной. Вам не хватает того, чего у вас никогда не было. Вы найдете способ убить себя. Вы совершенно точно как-ни¬будь умрете. Некоторые умирают изнутри, вертухаи чуют это за милю, они точно знают, когда человек мертв изнутри. Они отступаются. Оставляют человека в покое, швыряют его на корм акулам. Вот так я иногда чувствую себя - внутренне мертвым. Смот¬рю в зеркало: я мертв, мои глаза усталы и пусты. Иногда я гу¬ляю по улице и думаю, что никто меня не увидит; и тогда мне интересно, не умер ли я. Я чувствую себя бездонной дырой. Большой помойной ямой. Можно выбрасывать туда мусор, но она никогда не наполнится. На самом деле, вы больше ни¬когда не увидите того, что туда бросили. Вроде как в одно ухо влетело, в другое вылетело - но вниз и незримо. Вот поче¬му сейчас я вправе. Я - ничто, я убиваю время, у меня киш¬ка тонка хоть как-то двинуться внутрь наружу вверх вниз или еще куда-нибудь. Вот у меня какая песенка. Вот кольцо моей петли. Вот моя прогулка по коридору смертников. Я фальши¬вый, искусственный. Наверное, когда-то во мне что-то было. Прочно мое, но теперь я висельник. Холодный сквозняк из коридора раскачивает мое висящее тело туда и сюда изо дня в день. Жизнь не стоит того, чтобы жить, - в моем представ¬лении. Я попробовал все, что должно было заставить меня чувствовать себя живым, и они, черт возьми, едва не убили меня. А когда-то мне везло. ... Я всегда прав когда речь заходит обо мне Я раньше думал, что люди мне мешают Пока не понял как мало общего они имеют с тем, что я делаю Я живу в стране одного ... Я еду в автобусе. Слышу разговор этих юношей у себя за спиной. Они несут всякую чушь о том, как были на вечерин¬ке, и один начинает рассказывать, какая горячая оказалась та девка, когда он трахнул ее в горячей ванне, и какой она была мягкой, а ее дружок в соседней комнате исходил на мочу от ревности и злобы. Другой парень сказал, что да, он знает, что девка хороша, поскольку был с ней на прошлой неделе. Затем они начинают трепаться обо всяких своих драках на прошлой неделе, и тут я едва не попутал. Они го¬ворили о том, как один фраер получил цепью по башке, а другого измолотили так, что пришлось врать своим стари¬кам, что он свалился с лестницы. Вся эта фигня происходи¬ла прямо у меня за спиной. Мне было страшно оглядываться на этих парней. Вдруг и меня поколотят. Но смешно то, что говорили они с калифорнийским акцентом. Травили все эти запредельные байки про секс и насилие, а звучало как ком¬пания богатых серферов. А я сижу и, блядь, надеюсь, что эти сраные бугаи уберутся к чертовой матери из автобуса, пока им в голову не пришло поколотить меня. Примерно через две остановки они собрались выходить. Продефилировали мимо, не удостоив меня и взглядом. А уж как я на них выта¬ращился. Невероятно. Жирные уроды в нью-уэйвовых шмотках, которые, судя по всему, стоят кучу бабок. Послед¬него парня я не забуду никогда. В толстых очках, с большой жопой, в джинсовой куртке, и на спине маркером написано THE CURE. Что ж, блядь, такое с этими людьми? «Лекарст¬во»? Держу пари, детки таскают из родительского бара толь¬ко светлое пиво. Что случилось с малолетними преступника¬ми? Слишком поздно, наверное. Нужно издать закон: никому моложе двадцати пяти не продавать никакой слабо¬алкогольной продукции. Только крепкий эль, виски, или во¬обще ничего. Тому, кто хочет приобрести пиво «Лайт», долж¬но быть больше сорока, и он должен предъявлять удостоверение личности. ... От пальм все это выглядит враньем С ними улицы - как кинодекорации Бродяги и пальмы Мусор и пальмы Облитые мочой коридоры, заляпанные блевотиной лестницы И пальмы Как на открытке Должна быть такая открытка Где мертвый бандит из уличной шайки Лежит в луже крови Его труп у подножья пальмы Гетто пустыни Собаки задирают лапы и ссут на пальмы Пальмы выстроились перед домом звезды Сажайте кто хочет Части расчлененной Барбры Стрейзанд Разбросаны по двору перед домом Ее тупая башка на пальмовом листе Косые попутавшие глаза таращатся вверх На теплое калифорнийское солнце ... Бродягам в Венеции стоит собраться и сколотить банду. Пришить заплаты на спины своих грязных курток. Инициа¬ция должна состоять в том, чтобы срать и ссать в штаны и не менять их полтора года. Будут устраивать разборки с други¬ми бандами бездомных на автостоянках у пирса. Будут вста¬вать в боевую стойку и выхаривать мелочь у туристов. Бан¬да, которая выручит больше денег к концу ночи, станет победителем. Не говоря уже о тех, кого выебет заря. ... Посещало ли тебя когда-нибудь чувство, что времени боль¬ше не остается? Или, может, оно пролетает быстрее, чем ты думаешь, быстрее, чем ты можешь представить. Не было ли у тебя такого чувства: лежишь в объятиях любимой, болта¬ешь всякий вздор, в котором, кажется, есть смысл, но на са¬мом деле его нет, потому что знаешь, что завтра тебе будет совсем иначе? И ты все время это знаешь и все-таки зачем-то говоришь это и не знаешь, зачем, но ты не перестаешь в этом сомневаться, потому что слишком увяз в каком-то дерьме, от которого ослеп? У тебя разве никогда не было такого чувства, что кто-то тя¬нет тебя к смерти, растрачивая твое время на пустую болтов¬ню и вранье, от которого тебе хорошо? Никогда такого чув¬ства не было? Не было? Вообще никогда? Значит, думаешь, что останешься в этом мире вечно? Ты не задумывался, что растраченное время есть потерянное время? Не задумывал¬ся, что потерянное время приближает твою смерть? Не ту, которая тебя не касается, как в кино, или в журнале, или в каком-то блядском благом деле, на которое тратишь свои грязные деньги, - но твою смерть. Настоящую, кото¬рая заберет твою жизнь. Ты никогда не чувствовал, что больше нечем дышать? Что в груди все становится плотным и тяжелым? Никогда не было такого чувства в нутре, что это произойдет скорее раньше, чем позже, с каждым часом, каждой минутой, каждой секундой? Ты разве никогда не чувствовал, что воздух из тебя словно высосан? Тебе никог¬да не хотелось бежать, пока не вспыхнешь и не взорвешься? Со мной именно так. У меня в голове теперь встроенный секундомер. Мне в ухо вопит мой смертельный проводник. Полумашина-полузверь вонзает в меня шпоры и кричит: «Быстрее, идиот, солнце встает!» ... У тебя когда-нибудь бывало чувство, что нет выхода? Все во¬круг смыкается. Стены, на которых висят твои любимые кар¬тины, становятся твоими врагами. Это удушье. Каждая вещь, каждая мысль, каждое движение - все превращается в но¬жи, что секут тебя по лицу. Ты начинаешь думать, что жизнь - грязная уловка. Удар под дых. Ты - избитый дох¬ляк в ожидании воздуха, чтобы не было так трудно дышать. Ты должен быть осторожен, потому что ты постоянно втыка¬ешься в стенки могилы. Ты оборачиваешься, и что-то гово¬рит тебе: не дыши, не думай, не двигайся. Не делай того, что напоминает: ты жив. Может, тогда все будет о'кей. То есть пока - о'кей, сейчас или когда сердце стукнет всего один раз. Не закрывай глаза, не надо. Даже не мигай. Не стоит пропускать ни секунды. ... Вечерами шум снаружи усиливается до такой степени, что все орут друг на друга. Я все еще жду этого выстрела, этого вопля, этой сирены, которые означали бы, что кто-то выпустил себе мозги. Но они не звучат никогда. Вот было бы расписание, в которое можно заглянуть. Я сидел бы дома, чтобы не пропу¬стить тех мужиков, что вытаскивают из дома через дорогу труп, или тех двоих, что прямо на дороге стоят наизготовку, чтобы измолотить друг друга до смерти. Так необходимость смиряться со всем этим шумом была бы гораздо оправданнее. Это сняло бы тут много напряжения. Я замечаю это в себе, всю ночь я вынужден слушать, как эти ослы на улице орут, словно их жгут живьем. Три часа ночи, а они на улице наяри¬вают эту дерьмовую музыку и выкрикивают всякую хрено¬тень. Напряжение, да, напряжение нужно снять. Мне хочется сделать одно - взять ружье и перестрелять всех из окна спальни наверху. Вот что такое для меня напряжение. Хотя в этом-то и проблема. Сплошные нервы, никакого рас¬слабления. Никакого огня. Никакого пиф-паф. Почему бы этим парням не замеситься по-тяжелой с фараонами? Над кварталом постоянно болтаются эти вертушки, так ведь они не делают ни хрена. Какого хуя? Почему на крыше не сидит какой-нибудь снайпер из спецназа, вроде того Хондо из те¬лефильма? Так и вижу его: в кепке задом наперед, чтобы об¬зор был лучше, на губе болтается сигаретка, а он отстрели¬вает этих маленьких засранцев по пути из школы домой. Но ничего подобного никогда не случается. У нас тусуются только жирные работники собеса - приходят, захапывают наркоту и сматываются. Я не пропагандирую смерть и раз¬рушение... ну ладно, допустим, так, но какого хуя? От тре¬потни, сплошных уродов и без всякой смерти Джек стано¬вится мальчиком тупым и очень нервным. ... Помыкай ими. Тебе разве никогда не хотелось убивать их снова и снова? Мне - постоянно. Из-за них я скрежещу зу¬бами, из-за них желчь подступает мне к горлу. Они принуж¬дают мои глаза ненавидеть. Когда я вижу, как они умирают, мне хорошо, я чувствую, как снова оживаю. Словно родился заново. Я получеловек-полумашина. Чувствуешь, о чем я? Чувствуешь? Еще б ты не чувствовал. Я знаю, что ты дума¬ешь. Я все это знаю вдоль и поперек. Говорю тебе, я, навер¬ное, взорвусь. Тебе когда-нибудь хотелось сорвать свою по¬ганую физиономию ко всем чертям? Сжечь ее и ощутить боль от того, что ты здесь живешь. Я хочу, чтобы ты увидел, как это место охвачено огненной бурей, поскольку так хоро¬шо знать, что они сгорают блядскими факелами. ... Я шел по проспекту. Я увидел золотой «мерседес» с мигаю¬щими габаритными огнями. Впереди сидели мужчина и жен¬щина. К «мерседесу» подошли два черных парня. Прибли¬зившись, один начал орать и раскачивать машину вверх-вниз, поставив ногу на бампер. Другой просто стоял и смотрел. Парень снял ногу с бампера и схватился за фи¬гурку на капоте, вроде бы собираясь сорвать ее, но потом убрал руку. Затем обогнул машину и просунул руку внутрь с пассажирской стороны; вытащил нечто вроде ожерелья. Он снова подошел к капоту и потряс машину еще немножко. Опять схватил фигурку и оторвал ее. Швырнул ее через до¬рогу; фигурка упала на крышу. Потом снова подошел с пас¬сажирской стороны и заорал прямо в окно. После чего по¬вернулся и пошел по улице вместе с приятелем. ... Я вымотан, но не могу спать. Стоит закрыть глаза, в прост¬ранстве между зрачками и веками мелькают яркие белые точки. Тело напрягается и невольно отдергивается, уворачи¬ваясь от вертлявых точек. Мой хребет - зверь, захвативший мое тело. Челюсти стиснуты. Заметив, я их расслабляю, но вскоре зубы снова сжимаются сами собой. В животе плотный комок, я обливаюсь потом, под мышками и в паху все зудит. Хочется кричать, но я боюсь напугать себя до смерти. Болит сердце, я жду, что каждый новый удар зажмет его в моей глотке. Болит голова, кажется, она весит вдвое больше, она вот-вот взорвется. Я почти вижу, как она выры¬вается из черепа, летит по комнате и раскалывается о стену. ... Он снял одежду и часы и свалил все в кучу в гостиной. По¬шел в ванную и пустил воду. Ожидая, пока наполнится ван¬на, мерил шагами прихожую. Он не хотел идти в ванную, по¬ка ванна не будет полной. Когда он попробовал в прошлый раз, его лицо, уставившись на него из зеркала, напугало его до полусмерти. Ванна наполнилась. Он вошел, стараясь не глядеть в зеркало. Взял бритву и поднес к запястью. Глубо¬ко вдохнул и нажал. Давление на кожу остановило его. Он не боялся умереть, он как раз этого и хотел. Он боялся боли и крови, которую он наверняка увидит. Он снова приложил бритву к запястью и закрыл глаза. Нажал твердо и уверен¬но. Переместил бритву с запястья на сгиб локтя. Боль ока¬залась не резкой, как он ожидал. То была тупая и глубокая, пульсирующая боль, он чувствовал ее и в груди, и в голове. Бритва выпала у него из рук. Колени слегка ослабели. Он схватился за занавеску душа, каким-то чудом не сорвав ее. Залез в ванну и лег. Дышать стало тяжело, казалось, воздух уплотнялся, когда он вдыхал его. Он взглянул на кран и мыльницу. Воздух стал еще тяжелее. На кухне зазвонил телефон. Он засмеялся и глубоко вздохнул, его глаза закры¬лись, голова стала клониться вперед, пока он не замер, утк¬нувшись подбородком себе в грудь. ... Я не понимаю тебя. Думаю, никогда не понимал. Годами я пытался тебя понять. Отгадка так и не стала ближе. Мне не больно, просто странно. Тогда у меня были рваные раны и в голове пустота. Я думаю теперь о тебе, и мне кажется, что в целом я совсем не изменился. ... У меня под ногтями грязь - я копаю эту яму, в которой си¬жу. Когда говорят со мной, они говорят с моим подобием. Мясо у меня на руках для меня - как «Плэйтекс». Они по¬жимают мне руку, но не способны коснуться меня. Если я тя¬нусь к ним, то словно вешаю себе на шею вывеску «Уничтожь меня». Когда я тянусь к ним, надо мной всегда играют какую-нибудь жестокую шутку. Я же полностью за уничтожение, с ним все в порядке, но я предпочел бы сделать это сам. ... Человек, летящий по спирали вниз. Лоб вдавлен, глаза ос¬текленели. Я вырываю ему глотку. Толкаю его. Он рушится вниз, оставляя за собой дымок выхлопа. ... Она показывает пальцем. Его фарфоровая маска падает на землю и разбивается на множество зазубренных осколков. Она смотрит на лицо, которого не видела раньше. Уходит, оставляя его наедине с его деянием, разбросанным у ног. ... Флоридская трасса, 1986 год. Трущобы в глухомани. Я мед¬ленно проезжал мимо. Снаружи жара. Лачуги, неработаю¬щие заправки, мертвая кукуруза на полях, дебильные дети на улице, отупевшие от жары. Две девочки помахали мне вслед. ... На моей улице заходит солнце. Я живу на Сансет-авеню. Торговцы наркотиками устроили сходняк на автостоянке у дома напротив. Подъехали на «кадиллаках» и «БМВ». Де¬тишки смотрят на них в немом почтении. По правде сказать, и меня впечатляет. Вид у этих парней в золоте и на шикар¬ных машинах и впрямь импозантный. Их руки свободно ле¬жат на рулях. Сегодня за рулем, а завтра в тюрьме округа Лос-Анджелес. ... Чистое голубое небо, пальмы, береговой бриз, прекрасный закат. Хорошо одетые черные мальчики продают на моей улице наркотики. Вчера вечером я выходил из машины, а один подошел ко мне и спросил: - Ищешь? Я показал на окна своей квартиры и ответил: - Нет, живу. Он улыбнулся и сказал: - Знаем, слыхали. ... По моему стеклу карабкалась муха. Я раздавил ее краем жа¬люзи. Я наблюдал, как муха ползет с кишками наружу, ос¬тавляя за собой маленькую влажную полоску. Нет, я не су¬нулся к ней лицом и не слизнул это языком. Вы не так хорошо меня знаете, как вам кажется. Я наблюдал, как муха ползет, пока она не ослабела так, что не могла больше та¬щить кишки за собой. Какая смерть. Ни жалоб, ни просьб о помиловании. Ни криков «мама». Чуть погодя я глазел в окно на дилеров, тусовавшихся через дорогу. И снова уви¬дел свою муху. По-прежнему приклеенную к стеклу собст¬венными кишками. Ее поедала другая муха. Вот бы и мне так. Моя девушка вышибает себе в ванной мозги, а я стаски¬ваю ее тело вниз и питаюсь им неделями. Нет, я бы так не смог. Кишка тонка. Я снова думал об этой мухе и ее товар¬ке, сидящей на ней и вгрызающейся все глубже. У этой мухи кишки толще, чем у меня. ... Алло, мам, как слышишь меня? Прием. Да, сынок, продол¬жай. Прием. Мам, сегодня небо такое красное, и в воздухе одна бензиновая вонь. Вокруг только трупы, мы вроде бы как в аду. Вертолеты так ревут, что я себя не слышу, но это не так плохо, потому что все плохие мысли тоже вымело. Кроме смерти, думать больше не о чем. Она еще не пришла, но я думаю, дело лишь во времени. Прием. Всем пока, конец связи. ... Мексиканцы на своих великах Вижу их на закате Они медленно едут по улице Я еще сплю, когда они едут на работу Они всегда ездят на перекосоебленных велосипедах Иногда останавливаются у магазина Шесть банок «Бада» С одной рукой на руле снова вливаются в поток транспорта Иногда я могу заглянуть им в глаза Всегда немигающие, остекленевшие Часы тупого физического труда вытравили их блеск Иногда мне кажется, что парень - тот же самый Я мог бы оказаться в Редондо, Хермозе, Торрансе, Венеции Без разницы Я всегда вижу одного и того же мексиканца на битом велосипеде Глядя на него, я думаю о переполненных квартирах Слишком много дней и ночей, когда никогда не хва¬тает Слишком много покалеченных рук Слишком много лжи и нарушенных обещаний От которых ты голоден и упрям ... Я сижу за столом и слушаю голоса с улицы. Звуки города. Могу представить себе какие-то новые джунгли со своими животными, средой обитания и законами. Вот один барыга свистит другому, каждый на свой манер. Как птицы на деревьях. Полицейские вертолеты, мотороллеры. Споры, драки, выстрелы. Наконец, вой сирены. От всей этой какофонии я запираю дверь и не могу заснуть ночью. ... Когда мне было семнадцать, я ездил в Испанию. Ничего ри¬скованного, просто школьная поездка. Я жил в отеле с не¬сколькими сотнями других школьников со всех Штатов - всем было скучно и хотелось ебаться. Будто и не уезжал ни¬куда. Была большая вечеринка, на которой все напились, но никто никого не трахнул. Самым крутым приключением, если не считать того, что меня чуть не изнасиловали пьяные испанские гомики в «Дон Кихоте», было то, что я сходил на бой быков. Там были только мы со школьниками и местные. Местным мы ни капельки не нравились. Нам все время хоте¬лось, чтобы победил бык. Мы свистели, когда они тыкали бедную тварь всеми своими ножами. Состоялось всего три боя, и все кончились одинаково. Они напоказ убивали быка медленно, а затем матадору полагалось пронзить своей шпа¬гой шею быка и прикончить его. Мертвое животное затем целый круг тащили по арене. Наверное, чтобы зрители луч¬ше запомнили, или чтобы матадору кто-нибудь дал. Послед¬ний бой был лучше всех. Наступил момент, когда бык и ма¬тадор посмотрели в глаза друг другу, и шпага почти вонзилась в животное. Бык отступил в сторону, поддел ро¬гом и вырвал матадору коленную чашечку, и наподдал ему под задницу, швырнув на сиденья этих обсосов. Все мы, «американос», вскочили, бешено аплодируя. Местные так же бешено свистели. Прислали другого парня, и он вышиб из быка все дерьмо. Его задницу протащили по арене три раза, чтобы все знали, что победить невозможно, если ты один, перепуган и обезумел, если на тебя натравили кучу людей со шпагами и пиками, трезвых и хотящих поебаться. ... Мальчик в закусочной не докапывался ко мне. Просто стоял, ожидая, когда его обслужат. Он был худой и бледный. Нерв¬ное лицо. Прыщи, на лице такая поросль, что похожа на пле¬сень. Я наблюдал, как он наклоняется над прилавком, посту¬кивая по нему монетами. Как я уже сказал, он не докапывался. У меня было дикое желание проломить ему го¬лову и переломать ребра. Я не могу этого объяснить. Я про¬сто стоял, смотрел на его туловище и представлял, как я его изобью. Я уже ощущал его ребра под носками моих башма¬ков, совсем как голова того типа, которого я вздул во Флори¬де. Сильнее по голове я никого не бил. Я не испытывал враждебности к этому парню из закусочной, никакой нена¬висти, ничего подобного. Потому и стоял, недоумевая, что же со мной. Мальчик в конце концов взял, что ему надо, и вышел из закусочной. Я до сих пор представляю себе, как пинаю его тело через весь зал. Его тело вздрагивало и кор¬чилось от каждого пинка. Возвращаясь домой, в машине я представлял себе ужасную катастрофу: голова водителя разбита о приборный щиток машины. Я думал о том, как его мозги и зубы мешаются с едой, которую он только что купил. Я даже чувствовал их запах. Такой же, как тот, что я уловил, бродя вокруг места, где Кэтрин Арнольд вышибла себе мозги. А тут - сплющен¬ные тела, дымящаяся пища и синие мигалки полицейских машин, заливающие пространство ритмическими пассами. ... Я не хочу опираться ни на чье плечо. Мне это не нужно. Са¬ма мысль о «Ком-то, особенном ком-то!» для меня - слов¬но куча дерьма. Я должен быть полностью сдержанным. Ни¬каких утечек, никаких избытков. Зависимость - это слабость. Такая ложь. Лежу в постели, в объятиях любимой. Она меня поддерживает, она в меня верит! Никто меня не поддерживает. Меня я поддерживаю. Я в меня верю. Не нужна мне никакая группа поддержки, чтобы крышу не снесло. Я знаю, что я должен делать, поэтому я просто дол¬жен заткнуться и сделать это. ... Прогулка по Мэйн-стрит в Венеции. Люди снуют туда-сюда по магазинам, как морские свинки в клетке. У окон в ресторанах всегда сидят люди и едят. Я смотрю на них. Они смотрят из окон на меня и устремляют взгляды вдаль, озабочен но нахмурившись. Я не мог бы есть в таком месте. Боялся бы, что кто-нибудь проедет мимо и выстрелит в меня. Знаете, они всегда на меня смотрят, когда я прохожу по этой улице. Я всегда смотрю им прямо в глаза. Они всегда глаза от водят. Словно подошли слишком близко к тому, что им не нравится. Мне это нравится. Думаю, так и должно быть. Проходя мимо этой дурацкой фабрики на Роуз-авеню, я за глянул за нее, где пьют кофе под зонтиками. Думал, как здорово было бы пройтись по этому месту с огнеметом. Как на стоящий санитарный работник. К ебеням, дружище, это стадо свиней, и если мне это не нравится, надо съезжать от сюда. Как-то ночью через дорогу от того места, где я живу, стреляли. Подстрелили двух девчонок у парадного крыльца дома номер 309 по Сансет-авеню. Той ночью меня в городе не было. Как обычно, повезло. Только и разговоров было о том, как выстрелы всех в округе перебудили. Как эта дама вопила и стенала всю ночь. Черт, жалко, что меня здесь не было. Я бы смеялся и веселился, как последний ублюдок. Крутил бы из окна Дэвида Ли Рота на всю катушку. Зажег бы весь свет, плясал на тротуаре. Хохотал бы им в заплаканные лица. Братался бы со свиньями. Как досадно такое пропус¬тить. На следующий вечер я там гулял. Перед домом тусова¬лись белые хлыщи. Странно, подумал я. Неважно. Я наста¬вил на них палец и сказал: «Бах-бах», после чего засмеялся и пошел домой. Я рад, что тех двоих в ту ночь подстрелили. Теперь в округе действительно спокойно. Бродит множест¬во свиней, но жизнь - сплошь взаимные уступки, не так ли? Еще бы. ... Я понимаю, почему мужья бьют своих жен. Я понимаю, по¬чему мамы и папы бьют своих детей. Я понимаю, почему они дают клятвы и нарушают их. Дают обещания, забывают и ка¬ются. Я не знаю, почему не понимал этого раньше. Это так ясно. Это у них в глазах. Это ложь. Это ложь, и всем на нее наплевать. Они нашли самый безболезненный и элегантный способ стоять в очереди. ... Хилые белые людишки в автобусе. Такие неуместные. Пере¬мешаны, словно кусочки дерьма, развешанные на рождест¬венской елке. Они здесь неуместны и знают об этом. Посмо¬три на их лица. Легкий дискомфорт, нервозность, плохо скрытое отвращение. Ну и поездочка. Все они выглядят так, словно их снимает на пленку полиция. Я один из этих белых уродов. Я еду в автобусе. Я смотрю на них и мысленно смеюсь. Мексиканские девчонки со всем этим макияжем. Толстые жопы заполонили весь проход. Хулиганье на заднем сиденье курит дурь. Безликие рабочие и белая сволочь. ... «Скорая помощь» приехала и забрала тело бродяги. Девушка рядом со мной выглянула в окно и сказала: «Боже, сколь ко крови!» Интересно, санитары матерятся тихонько, когда им приходится увозить кого-то воняющего экскрементами, умирающего в луже рвоты, дерьма и мочи. Интересно, они когда-нибудь выкидывают этих жмуриков в мусорный контейнер где-нибудь за круглосуточной забегаловкой с пончиками. Или сбрасывают с моста. Было бы клево оставить эту дрянь у дверей хозяина вашей квартиры. Швырнуть в бассейн в Сенчури-Сити. Тело увозят в центр города, и его сжигает нелегальный трудяга, впахивающий за минимальную плату. ... В этой комнате я никогда не ошибаюсь. Все, что я говорю, все, что делаю, правильно и правдиво. Даже если это ложь, это моя комната. Я знаю, что лгу, и никто вокруг не скажет, что это не так. Можно сказать друзьям, что вчера вечером ты был во всем прав, и им нечем будет тебя опровергнуть. По этому я не хочу выходить из этой комнаты. Снаружи все лживо. Скажешь правду, и тебя обдерут. Тебя могут арестовать и даже убить. У себя в комнате я могу говорить правду во весь голос. Иногда только тут я бываю настоящим. Потому что снаружи каждый изо всех сил старается убежать от самого себя.. Реальность - убийственная машина. Заведенная на смерть. Правда так очевидна, что превращает нас в мерзкие мешки мяса. Слабые и зависимые. В срущих, ссущих, жрущих эскапистов. Все мы такие, и некоторым это в тягость. Ты не можешь подняться выше своей задницы, ты можешь подняться только над теми, кто думает, что может. ... Как-то раз я видел, как собака бежала зигзагами через до¬рогу. Сразу после того, как ее сбила машина. Собака выла так, словно ее глотка хотела выскочить из пасти. Из живота у нее вылезали кишки. Они опутали ее задние ноги. Отчего она и бежала зигзагами. Я видел, как она пробежала вдоль всего квартала и свернула за угол. Я и потом слышал, как она воет. Я видел пожилых негров, сидевших на своих ве¬рандах. Их лица даже не шевельнулись. Теперь я сижу здесь и размышляю, какое же дерьмо им довелось видеть в жизни, если это для них - фигня. ... Мальчишкой я ходил гулять в этот парк почти каждый день. Однажды я направился там к зарослям кустов. А там ошивались все эти полицейские. По телевизору я слышал, что мне нечего бояться. Я подошел к ним и спросил, можно ли мне здесь поиграть. Они велели мне уходить, а потом один из парковых дворников оттащил меня в сторону и сказал, что¬бы я шел играть к качелям. Полицейские ушли, только когда стемнело. На следующий день я узнал, что как раз на том ме¬сте, где я зарыл семь пенни, нашли тело маленькой девочки. Я откопал монетки через несколько дней. Хранил их, потому что думал, что это важно. Вскоре они исчезли в автомате, продающем жвачку. ... На улице было 360 градусов Подошли полицейские - с виду друзья На деле - солдаты Арестовали всё Всех квартиросъемщиков Всех домовладельцев Богатые девочки старались поймать поросячьи взгляды В надежде быстро отсосать в кустах Чтобы избежать судебного преследования А богатые мальчики могли предложить только кредитные карточки и свои задницы Кредит из задницы удавался до этого столько раз Без толку, загребли нас всех Перед тем, как отключиться, я увидел только Как крысы и тараканы в наручниках выстроились в ряд ... Стою в ванной, держа в руках свой член. Жалкий слюнявый мудак смотрит в зеркало. Кончает, как любая другая тварь. Спусти в раковину. Мне сейчас мерзко. Не нужна мне де¬вушка, о которой я думал. То была временная слабость. Я никогда больше так не сделаю. Сейчас я хочу кого-нибудь убить. Хочу увидеть чье-нибудь уничтожение, блядь. Хочу увидеть конец целой кучи людей. Я сдерживаюсь. Чуть не пробил дырку в стене. Я убил романтику. Эта дрянь мне нра¬вилась, пока я не понимал, как вертится мир. Теперь это для меня ничто. Ни одна девушка больше не лишит меня этого. Должно быть, тогда я лишился разума. Глупое дитя. Больше не надо. Просто место, куда можно засунуть хуй, словно у те¬бя нет мозгов. Полностью теряя форму. Хотя говорю тебе: это ложь, с которой я никак не могу справиться. Необходи¬мость лгать, чтобы не оставаться ночью одному. Лгать, себя к чертям не помня, чтобы тебя просто трахнули. Я так не мо¬гу. Хорошо, что больше эта срань мне не потребуется.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля