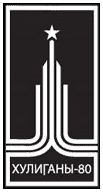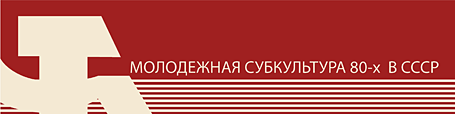

Роллинз Генри.Железо.
|
... Жизнь покидать - безбольно Жизнь покидать - безмолвно Покинутость вырастает изнутри Леденящим, пронизывающим, убийственным раком Рожденным и оставленным во прахе Солнце восходит Ты гуляешь по улице Ты понимаешь что покинут в доме совсем один Внутри холодно Двери заперты Тебе не выйти Кто покинул тебя Никто не покинул тебя Ты смотришь на себя И нет никого в доме Ты говоришь: эй, куда я пришел? Ты пришел в никуда Это покинутость Я открываю глаза и вижу Я чувствую Это пожирает меня Вот она - покинутость Отключи меня Или скоси меня Заставь не думать о себе Приди домой Закрой дверь Запри дверь Убедись, что ты запер дверь Задерни занавески Посмотри в окно На улицах полно убийц Змеи у твоих ног Почувствуй грязь потрогай болезнь Исцели болезнь Останови кровь Исцели болезнь Останови видение Успокой неспокойство Сядь на тахту Сбрось тяжесть Вынь ружье Вставь дуло в рот Закрой глаза Думай о грязи Думай об отчуждении Стань уединением Воплоти одиночество Пусть будет твоим оружием Отдели других От себя От них Возьми оружие Нажми на спуск Покажи им из чего ты сделан Прекрати мельтешить Нажми на спуск Кончай шутку Сделай это реальным Кончай ... Они сидят за столиком в баре. Официантка подходит при¬нять заказ. Она заказывает сухой мартини, он заказывает чашку кофе. Чуть погодя официантка приходит обратно с напитками. Она говорит: - Я запуталась, кто есть кто? Леди говорит: - Я мартини. Джентльмен говорит: - Я кофе. Официантка ставит напитки на стол и уходит. Она - джин. Холодный, опьяняющий. Заводит, заставляет потерять голову, становится тепло внутри. Если переберешь, станет плохо и ты вырубишься. Он - кофе, горячий, дымящийся, фильтрованный. Можешь добавить в него что-нибудь для улучшения вкуса. Портит желудок, возбуждает, напрягает, натягивает. Накачивает, бодрит, выжигает. Кофе и джин не смешиваются никогда, каждый все время старается улучшить свой вкус. ... Мадонна. Когда я слышу ее, я хочу пива. Хочу мчаться в ав¬то и играть в кегли. Из-за нее мне хочется бежать за покуп¬ками в «Сирс». Из-за нее мне хочется дать пинка вегетари¬анцам. Когда я слышу ее пение, я знаю, что она поет для меня. Она хочет со мной непристойностей. Когда я вижу ее лицо, ее глаза, ее губы, они говорят со мной, бросают мне вызов... Я становлюсь с нею мерзким. Такое чувство, будто я хочу отжаться много раз подряд от пола или сходить в ско¬бяную лавку. Затем мне нужно остыть. Я должен остыть, му¬жик. Поможет либо холодный душ, либо пластинка Брюса Спрингстина. ... Мужчина и женщина Навсегда разорванные Навсегда разъединенные Сцепившись Терзают плоть друг друга Ебутся в мелких могилах Катаются в пропитанной кровью грязи Он смотрит ей в глаза Он протискивается в нее Глубоко в нее Он вырывает ей матку И вытряхивает ей на лицо Он кричит: Чья это была фантазия? ... Тараканы - ваши боги. Вы слабы. Вы должны бы молиться им. Они - более совершенная форма жизни, чем вы. Вы за¬траханы своими идиотскими идиосинкразиями. Вам нужны психоаналитики, транквилизаторы, вам нужен отпуск, вы на¬чинаете войны, совершаете суицид, вы крадете, вы лжете, вы мошенничаете. Вы слабы. Вы не можете выжить, вы слиш¬ком заняты - таскаете свои огромные мозги. Вынуждены строить тюрьмы, чтобы ваши сородичи не убили вас. Вы уби¬ваете всё. Вы живете в страхе. Вы не можете жить просто и красиво, как таракан. Вы делаете аборты. Вы занимаетесь бессмысленной деятельностью. Вы слабы, тараканы - ваши боги. Вы недостойны- даже целовать гладкие чешуйки на брюшке матери-тараканихи. Вам они отвратительны, вы их боитесь. Их больше, чем таких, как вы. Вам тошно даже смо¬треть на них, они заставляют вас блевать. Вы слабы. Тарака¬ны - ваши боги. Отдайте им свою тарелку пищи. Сделаете вы это или нет, они переживут вас и вашу тупость. Вы пыта¬етесь истребить их газом и ядом, точно так же, как собствен¬ный вид. Но таракан возвращается, он еще сильнее, провор¬нее, он получил иммунитет. Вы смотрите телевизор, вы запираете двери, чтобы защитить себя от себе подобных. Вы колетесь, продаете свои тела, вы находите новые изобрета¬тельные способы калечить себя и других. Вы слабы. Тарака¬ны - ваши боги. ... Она касается меня Джунгли вспыхивают испепеляющим огнем Как пылающая змея Я смотрю ей в глаза И в них мелькает кино Разбивается машина Люди пинают трупы Мужчины выдирают себе трахеи и грозят ими небесам Я думаю про себя: Я не хочу этого пережить Я хочу сгореть в обломках катастрофы Жареная плоть в джунглях ... Этой зимой умер мой отец. Просто умер. Я рад, что он умер зимой. Одна мысль, что его тело сохранится в холодную по¬ру. Не кажется ли вам, что так чище? Меньше тления? Мне это нравится. Я почти могу представить его мертвое лицо. Глаза - застывшие, равнодушно закатившиеся наверх. От¬павшая челюсть. Смотрится как любые фотографии жертв нацистских лагерей. Да, он умер зимней порой. Сохранился в холоде. Такова моя память об этой смерти. Холодный, за¬мороженный, застывший. Совершенно не тронутый летним зноем и влагой. Зноем, который заставляет мои мысли гнить и кипеть в дерьме и разложении. Нет, память о нем живет в морозильной камере моей души. Тепло сочувствия и нежности не проникает сюда. Этих чувств все равно не бывает. Я не был ни на похоронах, ни на встречах, что им предшест¬вовали. Я пропустил два момента, при которых мне хотелось бы присутствовать. Я не был при его последнем вздохе. Мне хотелось, чтобы мои глаза оказались близко к его глазам и его последний вздох овеял меня. Я не смог вдохнуть ни единой частицы его последнего вздоха, глядя ему прямо в глаза. Я бы задержал в себе его дыхание, насколько смог, чтобы потом выдохнуть в банку и оставить у себя. На вскры¬тии я тоже не был. Мне бы очень хотелось посмотреть на его потроха, его мозги, его тело. Расчлененное холодным, акку¬ратным хирургическим образом. ...Во сне я парил над ним и изучал его вскрытое, рассечен¬ное тело. Он выглядит жалким. Его сморщенный, серо-голу¬бой член. Он выглядит как падаль. Он выглядит беспомощ¬ным и тупым. Я ненавижу тупость. Я спускаюсь со своей высоты и пинаю его хрупкие ребра обитым железом носком сапога. Коронер отмахивается от меня и велит не подходить, пока он не закончит осмотр тела. Из уважения к его работе я сижу на складном стульчике и читаю журнал. Я не могу со¬средоточиться на журнале, потому что вскрытие и зашива¬ние отцовского трупа завораживает. Я спрашиваю, не могу ли я помочь. Мне отказывают, конечно, - такова обычная практика, ближайшим родственникам не разрешают участ¬вовать во вскрытии... Я хотел бы попросить у коронера холодное, мертвое сердце моего отца. Получив сердце, я отнес бы его домой и приго¬товил бы сердечный бульон. Я пригласил бы совершенно особенных гостей. Мы беседовали бы о всяких мелочах, по¬тягивали минеральную воду или белое вино и вкушали сердце моего отца. Поминки получились бы очень возвы¬шенные и интимные. От меня потребовалось бы немало стойкости, поскольку я вегетарианец. Однако возможность поужинать отцовским сердцем очень соблазнительна. ... Когда она кончает: То привлекает тебя к себе Дышит короткими рывками Ее глаза закрыты Голова запрокинута Рот приоткрыт Бедра становятся как сталь а потом плавятся Она прекрасна И ты чувствуешь словно ты - всё ПИСАЯ В ГЕНОФОНД Все опубликованное в книжках «Писая в генофонд» и «Арт и Шок Души» возникло из одного состояния рассудка. Обе, в конечном итоге, вышли под одной обложкой. По большей части материал был написан в Венеции, штат Калифорния, в 1986 году. Я тогда жил через дорогу от весьма бойкого места, где торговали крэком. Дела они вели и днем, и ночью. В какой-то момент его обстреляли из проезжавшей машины, похоже, убили каких-то девчонок. Вскоре после этого притон закрылся. Я видел это по ТВ. Рейс «Л-1011». Цветные съем¬ки. Он выглядел как сломанная игрушка. Люди с мешками для мусора собирали конечности. Повсюду разбросаны ба¬гаж, одежда, тела и большие куски металла. Я никогда не за¬буду это зрелище - огромный самолет, разодранный на ку¬ски, распотрошенный, будто его испинали гигантской ногой. Интересно, каково им было. Собирать головы, руки, пальцы и перемешанные внутренности и складывать в пластиковые пакеты. Интересно, эти парни обшаривают карманы мертве¬цов себе на пиво? Почему нет? На кой хрен жмурику день¬ги? Мухи, должно быть, кишмя кишат, поскольку лето и все такое. Спроси у любой, и она тебе скажет: нет ничего лучше свежих кишок в летний день! Телекамера поворачивается к главному коронеру. Он сказал, что опознание тел займет много времени. Большая часть покрыта реактивным топли¬вом, многие обгорели до неузнаваемости. Он просил родст¬венников принести какие-нибудь фотографии, карты стоматологов, информацию от врачей (о послеоперационных шрамах), поскольку все это поможет ускорить процесс. Че¬рез несколько дней в «Тайм» и «Ньюсуик» будут хорошие цветные фотографии кучи исковерканного металла и разо¬рванных тел. Я торчу от таких снимков: несколько месяцев назад опубликовали несколько клевых цветных кадров, на которых громоздились горы трупов в концлагере Бельзен. Но так или иначе, когда журналы с картинками авиакатастрофы выйдут, я их обязательно куплю, да, сэр. И скажу: «Елки-палки, как хорошо, что меня в том самолете не было! Только глянь на этих людей. Они мертвы, обнажены и со¬жжены!» ... По-моему, она даже не человек, она какая-то разновидность микроба. Фикция. Отвратительная, невротичная и грубая. Жалкая - вот какое слово приходит на ум. Когда она пьяна и развязна, находиться рядом с ней - пытка. Она употреб¬ляет марихуану как лекарство для поддержания жизни. Жи¬вее всего она, когда у нее есть шанс «обдолбаться». Когда она закидывается и пускает слюни на травку, я думаю про себя «кокаиновая блядь», но меняю «кокаиновая» на «марихуановая». Она редко моется, и порой вонь от нее бывает совершенно ужасающей. Я не люблю, чтобы нас ставили ря¬дом, поскольку вижу, как мерзко она ведет себя с теми, с кем я работаю. Когда она входит в комнату, я или выхожу, или стараюсь держаться от нее подальше. Я надеюсь, она продолжит свой маленький мучительный путь и исчезнет из моего поля зрения. Я не испытываю к ней никакой ненави¬сти. Она ухитряется обламывать всех вокруг. Меня, безус¬ловно, тоже. Я не хотел так к ней относиться, нет. Теперь это перешло в необратимую стадию. Я избегаю ее при любой возможности. ... Я случайно подслушал разговор в компании. Девушка гово¬рила, что вынуждена раскошеливаться всякий раз, когда на¬ступают месячные. Она сказала, что «Мидол» и тампоны нужно раздавать в благотворительных коробках. Я раньше об этом не думал. Тут она права. Что, если парню придется выкладывать монету всякий раз, когда надо пописать? Вна¬чале ничего, а потом эти монеты станут накапливаться, и бу¬дешь напрягаться, чтобы их хватило подольше. Представьте, вы говорите: «Черт, я проссал сегодня доллар!» А если пиво любите? А если баксов не будет? Чек выписывать? Ссать по кредитке? А если придется аскать: «Братушка, не подкинешь монетку? Мне надо пописать». Сущий ад мочевого пузыря, старик. Подумать только! ... Здесь холодно, холодно и дождливо. Август, но похоже на октябрь. Даже воздух пахнет по-осеннему. Осенняя пора на¬водит на мысли о том, как я работал в магазине мороженого в Вашингтоне, округ Колумбия. Квартира осенью 1980 года у меня была воистину мерзкой, и я избегал ее как только мог. Приходилось шататься по улицам и отрабатывать дополни¬тельные смены в магазине мороженого. Приходилось подол¬гу шляться одному. Пока мой автомобиль был еще исправен, я ездил по ночам, открыв все окна, лишь бы лицо обдавал хо¬лодный воздух. Я объезжал разные районы Нью-Йорка, про¬сто чтобы в голове прояснилось. Потом я столько кататься перестал, мне стало больше нравиться ходить пешком. Я отправлялся в дальние прогулки один. От того, что мне нравилось гулять в одиночку, я чувствовал себя стариком. Никогда не забуду запаха осеннего воздуха в тот год. Квар¬тира была для меня последним прибежищем, поэтому я проводил много времени на улице. Временами казалось, что ме¬ня выводит из себя абсолютно все. Я работал за прилавком в магазине мороженого, и покупатели меня просто изматы¬вали. Я принимал заказы весь день. Я чувствовал себя ста¬рой рубашкой, которую снова и снова сдают в прачечную. К концу смены я был выжат как лимон - от людей, их бол¬товни и чепухи, которую они несли. Прогулки действовали благотворно. Так здорово выйти на улицу, где воздух чист и прохладен. Жизнь казалась прекрасной. Иногда кто-то из покупателей приглашал меня на вечеринку или на обед, но я отказывался. Какая-то часть меня идти хо¬тела, но такие вылазки всегда лишь усугубляли мое отчужде¬ние. От людских разговоров мне становилось одиноко, и я озлоблялся. Одиноко - потому что я не мог приспособить¬ся, никогда не мог. Когда мне об этом напоминали, это заде¬вало. И злило, ибо вновь подтверждалось то, что я всегда знал: я одинок и всем чужой. Отчужденным и одиноким я чувствовал себя подолгу. Но со всем этим пришло и настоящее сильное ощущение незави¬симости. Мне стало нравиться обедать одному и проводить большую часть свободного времени в одиночестве. Я гулял по этим улицам, небо в облаках, дождик то капает, то пре¬кращается, и ко мне волнами приходят четко оформленные воспоминания. Ту осень я помню яснее всего. Я уже не хо¬дил в школу, и у меня возникало странное чувство: осень, а мне не надо сидеть за партой. Я отчетливее осознавал каждый день и каждую ночь, а также все время между ними. Иногда мне не хватает такой жизни. Мне нравились ночи в магазинчике мороженого. Место, где нужно что-то делать и которое - не квартира. Я шел домой медленно, любуясь уличными фонарями, вдыхая холодный воздух. Квартира была как тюремная камера. Мне хотелось избить себя, если я поздно вставал. Дорога в Джорджтаун была длинной, но я знал, что чем быстрее уйду из этой квартиры, тем лучше. Проклятье, в ту осень я был одинок. Я мечтал жить с какой-нибудь девушкой. Но в действительности не делал ничего, чтобы знакомиться с девушками, слишком застенчив, слиш¬ком заморочен. Осень наводит меня на мысли о женщинах. В магазине мороженого у меня был один или два выходных в неделю. Но поскольку я взял на себя больше обязаннос¬тей, выходные почти сошли на нет. В ту осень я почти всегда брал выходной в пятницу на ночь. Пятница - мой любимый день недели. Вечером в пятницу я или гулял до одури, или сидел в гостях у Майка или Криса. Мы тусовались, пили коку и слушали бесконечные пластинки. Одно из моих лю¬бимых воспоминаний. Никогда не забуду, как плохо и одновременно хорошо чув¬ствуешь себя в депрессии и одиночестве. Это и теперь так. Тротуары, деревья, витрины магазинов - они стали моими друзьями. Каждый раз, проходя мимо дома, где топился ка¬мин, я пытался представить, что люди делают внутри. Иногда я чувствовал такую оторванность от всего, что хотелось уме¬реть. Я чувствовал себя ужасно, но затем из ниоткуда меня затопляла волна расслабления и покоя. Это моя жизнь! Моя депрессия! Благо для меня! Воздух, листья и уличные фона¬ри улыбались мне, и я чувствовал себя неплохо. В ту осень я понимал: да, я один в этом мире, совершенно один. Одинок и всем чужой, но в то же время я - не один, у меня есть я. В детстве я всегда был одинок, но впервые настало такое время, когда я осознал, что значит быть одному. Я чувство¬вал себя так, словно мог выдержать длиннейшую зиму. Мне тревожно, когда мое сознание переполняется воспоми¬наниями, с которыми я не могу освоиться. Я выписываю их из своей системы и надеюсь, что это получается. Бегу, запы¬хавшись, от одного слова к другому. Иногда я думаю, что рассекаю свои мозги на маленькие кусочки. Когда меня за¬ключают в рамки сознания и времени внешние элементы, вроде погоды или географического положения, я слетаю с катушек. Чтобы освободиться от этого, я должен написать книгу размером с телефонный справочник. Ничто не действует на меня так, как осень, все-таки ничто. Я прямо сейчас могу представить, как гуляю по П-стрит, могу почувствовать. Я чувствую каминный дым на О-стрит прямо сейчас. Вижу уличные фонари на Р-стрит. Но в то же время я чувствую засасывающую пустоту, которая парали¬зовала меня и сделала угрюмым и холодным. Я могу вспом¬нить, как сидел в этой темной квартире, провонявшей крас¬кой и инсектицидами, так дико желая выйти, но не имея ни малейшей, черт возьми, идеи, куда идти. Всякий раз, когда воздух холодеет, я переношусь во все эти места. Мне мере¬щится неоновый свете моего магазина, если смотреть на не¬го из «Народного Драгстора» напротив. Он выглядит ожив¬ленным и радостным. Светящийся стеклянный куб в темноте, холодная стена. Я будто смотрю на мир снаружи. Гуляя по улицам на окраине земли. Одинокий и чужой. ... Как ты сегодня? Все карабкаешься наверх? Тебе рассказали все про эту лестницу. Карабкайся, и обретешь спасение. Спорим, нелегко? Руки устали? Еще бы, лестница-то длин¬ная. Вера - такое слово они говорили? Надежда? Я за то¬бой давненько наблюдаю. Не лезешь ты ни на какую лестни¬цу. Ты крутишься как белка в колесе. ... Этим летом я остался на острове в одиночестве. Мой ум гу¬ляет сам по себе, обычно по улицам моего родного города. Одинокие ночные прогулки по бульвару Макартур. Влажный, неподвижный воздух. Мотыльки вьются в свете уличных фо¬нарей. Я иду сквозь ночь, больной, свободный и одинокий. Солнце никогда не взойдет над этими улицами. Бульвар Ма¬картур всегда темный и тихий. Уличные фонари - малень¬кие желтые планеты, которые не дают мне далеко отвалить¬ся. Я оторван от всего. Я погружаюсь в себя так глубоко, что превращаюсь в самое жалкое, одинокое, безобразное жи¬вотное на свете. Лето становится тюрьмой, севшим на мель кораблем, лестницей в никуда. Лето вновь приносит мысли о девушке и ее доме. Я чувствовал себя таким маленьким, что мог бы спрятаться в трещины мостовой. Летнее живот¬ное, я не могу ни убежать, ни спрятаться от этого. Путешест¬вие моего сознания продолжается, и вот я стою перед домом с верандой на Бичер-стрит. Вижу себя и других знакомых на крыльце, они неподвижны. Они - статуи. Внезапно я тяже¬лею, словно меня наполняет вода или песок. Я становлюсь усталым, ленивым и безмозглым. Косным и задышливым. Я знаю, что я есть, но не знаю, что должен делать. Если со¬мневаюсь, то я обычно двигаюсь. Ухожу и гуляю где-нибудь, пытаясь выйти изо рта или задницы летнего зверя, который проглотил меня. Закаты хуже всего. Они умирают медленно и печально, пылая и прощаясь. Я хочу протянуть руку и схватить солнце, закинуть его обратно в небо: так у меня будет больше времени, чтобы понять эту дилемму. Я знаю, что уже слишком поздно добираться до других берегов. Я не стал бы, даже если б смог. Лето выжигает меня, оставляя лишь пустую оболочку. Возбужденную бессонницей и жаж¬дой всего сразу. Я бесхребетно зависаю ни там и ни здесь. Моя кожа дубеет, и меня в ней крючит. Я запечатан в ней. Все поры, все отверстия. Под этой дубленой шкурой я кри¬чу, верчусь, трясусь и сгораю в молчании. Интересно, не луч¬ше ли мне оказаться подальше от всего, что хоть как-то по¬хоже вот на это? Можно изменить пейзаж вокруг. Можно удрать от кулаков, что молотят тебя, но сбежать от своих чувств нельзя. Я прополз по всем сточным трубам отсюда дотуда, и у меня ни разу не получилось. И я сгораю молча. ... Как-то ночью мне приснился сон. Я лежал на полу с закры¬тыми глазами, а твари оживали: змея ползла в пустыне по тропе параллельно прямой, вымощенной черным дороге. За¬ходит солнце, но вокруг еще достаточно светло. В другую сторону на горизонте идет по дороге женщина. Она и змея сближаются и почти минуют друг друга, но вдруг останавли¬ваются. Обе выходят на полосу между тропой и дорогой. Внезапно налетает ветер, и змея превращается в человека. У него темные волосы. Тело его отмечено шрамами и симво¬лами, знаками его племени. Двое становятся лицом друг к другу и обнимаются. Налетает другой порыв ветра и сдува¬ет с них все одежды. Солнце на секунду останавливается и начинает медленно восходить, становится глубоко-малино¬вым и испускает низкий металлический вой. Двое стоят, крепко обнявшись, совершенно неподвижно. Их тела слива¬ются, точно две части головоломки. Налетает новый порыв ветра и сдувает с мужчины и женщины всю плоть и все вну¬тренности: что остаются лишь два скелета, сомкнутых в объ¬ятии. Их челюсти открываются, и они начинают вгрызаться друг в друга, кость в кость, зубы в зубы. Солнце уже воет на такой частоте, что сотрясается вся земля. Скелеты скрежещут друг о друга так, словно пытаются уничтожить друг друга. Налетает еще один порыв ветра и полностью переплетает двоих так, что виден только один силуэт; это происходит в одно мгновение ока, а потом изображение взрывается и превращается в груду песка. Та сгорает бело-голубым пла¬менем, и не остается ничего. Теперь солнце изменило форму, стало двойной спиралью, ярко-красной, скрученной. Оно то¬нет вдали, грохот умолкает, а свет меркнет. ... Мне нравятся мои головные боли, они чистые. Больше всего мне нравятся те, что у меня в последнее время. Боль скачет по всей голове. Иногда они приходят ниоткуда. Боль проно¬сится через мою голову, как вспышка света. Острая и чистая. Я вижу в мозгу холодные голубые осколки. От них моя голо¬ва расширяется, сжимается и принимает отвратительные формы. Иногда я даже щурюсь от боли. Она как пуля, что входит в мой мозг и прокладывает там свой путь, извиваясь, как змея, воткнутая в розетку. Иногда я думаю, что что-то хо¬чет войти мне в голову, а иногда мне кажется, что что-то пы¬тается из нее вырваться. Как восходящее солнце. Изъязв¬ленное. Палящее. Оно разрушает клетки моего мозга. Постоянно вращается и выбрасывается спиралями. Может, в моей голове нашла прибежище колония беглых крыс, и они превращают мои мозги в трущобы, в зловонный притон для снов и галлюцинаций. Они проедают путь в сердцевине мое¬го мозга, поглощая серое и белое вещество. Подкрепляясь, накапливая силы, чтобы насылать и воплощать чуму и мор. Боль дает мне силы и знания. Принуждает понимать, призна¬вать, сливаться с ней, наслаждаться ею и ее производными: привидением и ожесточенным, абсолютным поступательным движением. Мне нравятся мои головные боли. ... Я - разноцветная ткань человеческих шрамов. Я склонен к самобичеванию, и я бичую себя почем зря. ХВАТИТ УЖЕ! Я не оправдаю надежд. Наверное, я забыл упомянуть о сво¬ем всепоглощающем малодушии, тупости и явном, чистей¬шем убожестве. Но в твоих глазах я - незнакомец, и мое на¬строение колбасит гильотиной, а мои руки никак не связаны с черепушкой, и у меня бешеные мускулы и уклончивый взгляд, и у моего побуждения нет названия, я не знаю, что делать с этими мускулами, членом, мозгами, ножом - все равно чем. Я только хочу что-то сделать.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля