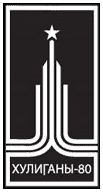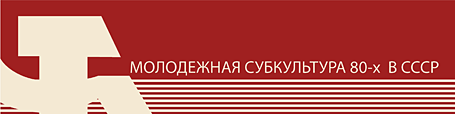

Очерки частной жизни пермяков. Владимир Киршин
|
1973. ВЕТЕР С ЗАПАДА По вечерам – ждали “мусорку”. В любую погоду в шесть часов вечера во двор выходили жильцы с ведрами и стояли в молчаливом ожидании. Некоторые, как бы гуляя, выходили на дорогу – потом бежали: “Едет! Едет!”, хватали свои ведра и становились к “мусорке” первыми. Динозавр 70-х – мусоровоз – медленно вползал во двор, разворачивался, отворял свою огромную вонючую пасть, из которой вечно что-то капало. Люди, зажав носы, толпились с ведрами, вываливали поскорее мусор и отбегали, подходили следующие. Когда пасть мусоровоза наполнялась, водитель нажимал рычаг сбоку, и стальная челюсть медленно сглатывала порцию. В эту минуту следующим полагалось стоять и не рыпаться, пока челюсть не вернется, а если какая-нибудь рассеянная бабка вываливала раньше, водитель жутко матерился и грозил убить бабку лопатой. В 1973 году отмечали 250 лет орденоносной Перми. Перед оперным театром вместо тополей посадили голубые ели. Воздвигли стелу по дороге на Пермь-II. Выпустили значок с чудо-молотом. То был советский герб нашего города – Чудо-Молот. Больше того, он был идолищем горожан (он и стоял – на горе), а священным духом служил Производственный План. Половина пермских семей за ужином рассуждала тревожно: будет в этом месяце План или нет. В конце года мужчины ночевали в цехах во имя Плана, их семьи молча ждали Его, а над их головами летали незримые молоты... Сколько инфарктов, скольких жизней стоил Перми Орден Ленина, пожалованный городу в 71-ом... Он был огромный, Орден, крашен серебрянкой, водрузили его на Октябрьской площади лицом туда, к Башне Смерти, откуда дважды в год спускались колонны трудящихся в ювенильном, котлованном веселье... Трудились горожане на часовом (электроприборном) заводе, карбюраторном (заводе Калинина), патефонном (велозаводе). По обе стороны красавицы Камы дымили химические гиганты, медленно отравляя все вокруг. Предписывалось молчать, что на часовом заводе собирали гироскопы для ракет, а на заводе Калинина – ракетные двигатели. По ночам на три версты вокруг был слышен вой аэродинамических труб Свердловского завода – там, тссс, испытывали авиадвигатели. Говорили, что стенки тех труб полые и засыпаны самым лучшим звукопоглотителем – семечками. Над Камой грохали пушки завода Ленина, их целомудренно называли – “длинномерные изделия”. Знаем еще один подземный завод в черте города. Его легко найти, там вонь до сих пор и трава не растет. Плешивая земля и мертвый лес всегда выдавали секретное производство к бессильной ярости “особистов”, как и желтые руки работниц. Работницам приплачивали за вредность, они прессовали взрывчатку и твердое топливо. Пресс-формы часто взрывались. Как у кого муж запьет или дочь загуляет, так – взрыв. Хорошо, отвод волны предусмотрен, погибших не было – одни заики. Понятное дело, самым престижным факультетом в Перми был – “Авиадвигатели” ППИ. Вечный недобор абитуриентов – на “Горном”. Предмет шуток – специальность “Водоснабжение и канализация” на “стройфаке”, она же служила лодырям убежищем от армии. В Пермский госуниверситет шли в расчете на высокую стезю, отнюдь не учительскую. По городу, однако, расклад был такой: “Ума нет – иди в “пед”, стыда нет – иди в “мед”, ни того, ни другого нет – иди в госуниверситет”. Еще было ВКИУ, многим парням тогда нравилась армия. Туда нанимались девчонки на работу, чтобы выйти замуж. Выйти замуж можно было и не нанимаясь на работу – просто пройдясь по набережной перед военным училищем в день увольнения голодных до женской ласки курсантов. “Женские” институты и училища приглашали к себе на танцевальные вечера “вкиушников” – тоже шанс. В 1973 году всех гоняли сдавать нормы ГТО, все возрасты, – поголовная физкультуризация страны. Народ кряхтел: “Опять кому-то наверху моча в голову ударила” – и добывал справки-освобождения от новой принудиловки. Ездили на природу. Клещей тогда не было, не изобрели еще. “Экологии” не было, СПИДа не было, “нюхачей” не было – девственный мир! Зато были очереди за колбасой. Диалектика. Радовали “Семнадцать мгновений весны” и новый мультсериал “Ну, погоди!”. На их появление народ немедленно отозвался волной анекдотов. В 1973 году в молодежной аудитории утвердился хард-рок. Слово “ансамбль” устарело, стали говорить – “группа”: “Роллинги”, “Дорз”, “Лед Зеппелин” – волосы до пояса, полуголые, гиперзвук, гипер-экспрессия, все у них – гипер. В ДК Пушкина, что на Кислотных дачах, пермская группа “Склавины” заиграла “Deep Purple”! К ним любители хард-рока ездили на электричке, сильно напивались в дороге и имели неприятности с милицией. Что, кстати, целиком укладывалось в их рок-философию “протеста”. Серьезные меломаны заговорили о новом стандарте качества звука Hi-Fi (“high fidelity” – высокая точность, англ.). Модные темы – шумоподавление Долби, квадрофония и цветомузыка. Все шло с Запада, вообще – все. Лично мне это не нравилось, но это был факт: атмосфера с той стороны железного занавеса была гуще, идеи горячее, людские пороки активнее, все это со свистом сквозило через дыры сюда, к нам, и будоражило души уже целого поколения. Дыры в занавесе множились и расширялись, от западного ветра захватывало дух. Вот кто мне скажет, когда в Перми шел документальный фильм “Спорт, спорт, спорт”? Мы ходили на него ради пяти секунд нью-йоркских небоскребов, двух секунд загорающего на крыше автомобиля хиппи и живых “битлов” – вообще мельком. Но эта малость была как пилка в батоне, как свернутая авторами в точку (чтобы просунуть нам) чужая свобода. Мы ходили на “Спорт...” не по разу. В нужном месте мы напружинивались, чтобы схватить и развернуть точку, чтобы домыслить и вообразить иную жизнь. Зеркальные дома до небес. Чудак на крыше, – ну вот вздумалось ему полежать на крыше своего автомобиля, и никто ему не указ. Живые “битлы” поют. Что они там пели? Забойное что-то – “Can’t by my love”? А может, и нет. А может, и не пели, а может, не “битлы”. А может, и не было никакого фильма, и пилка в батоне мне только пригрезилась... Душно было. 1974. НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА Вечер. Шепот, робкое дыханье, трели соловья... А в армии вечерняя прогулка выглядела так. Дневальный с тумбочки блажит дурным голосом: “Строиться на вечернюю прогулку!”. Солдатики-первогодки чибонят сигаретки и прячут их кто куда, спешат к месту построения: последний призыв бегом, постарше – шагом, “старичье” вообще не идет на прогулку – сачкует. Вечерний моцион: подразделение колонной марширует по дорожкам военного городка, ни на что не похожий “военный” голос по команде запевает: Как будто ветры с гор Трубят солдату сбор – Дорога от порога далека. И уронив платок, Чтоб не видал никто, Слезу смахнула девичья рука. Припев подхватывают сорок глоток. Сзади, с повадкой дрессировщика, дефилирует сержант-хохол, его окрик-бич: “Казарян, твою мать! Шо, снова слова забув? Будэмо рэпетирувать!”. Все служили под одним знаменем: хохлы, ары, чурки, чукчи, прибалты, бульбаши, москали кляты – все одним дождиком мочены, одним матом крыты, все одну “школу жизни” проходили. Расставались, однако, со слезами, адреса в “дембельские альбомы” писали. Что это за “школа” такая диковинная? И как там насчет “частной жизни” у казенных людей – может, не было? А была! Даже мода была у солдат. Заглаживали поперек спины рубчик. Укорачивали шинели (на “гражданке” в том году носили короткие пальто). Продавливали шапки a’ля кубанка, прогибали фуражки – “шоб як у СС”. Совали пластмассу под погоны, зашивали у шинелей шлицы, меняли пуговицы – пустые солдатские на цельные офицерские, меняли ремни – искусственные на кожаные, на конце ремня бритвой ставили зарубки – месяцы службы. К дембелю готовили “парадку”: обшивали неуставным кантом шеврон и нашивки, цепляли на грудь самодельные значки. Командиры обрывали “самодеятельность” с мясом, блюли форму одежды ретиво. Вообще, всякую форму в 70-х блюли ретиво. Самоделок в армии – хватит на целый музей: часовые браслеты, финские ножи, шкатулки, рамочки, копии танков, ракет, самолетов и кораблей, зажигалки, чеканки – больше, чем в тюрьме, намного больше – потому что с материалами проще. Сходство с тюремной, лагерной жизнью, кстати, тогда, в 1974 году, было незначительным, неопасным. В 74-м еще жива была идея защиты отечества от мирового империализма, в военной службе был смысл. Бойцы офицеров уважали и боялись, отданным долгом Родине гордились. Родина – была! Елки-моталки. Как сейчас там, в армии, – не знаю. Подумать страшно. Прелесть армии, любой казенной жизни: вовремя накормят и спать уложат, раз в неделю в баню отведут – чистое белье уже заготовлено: летом – синие трусы, майка и тонкие портянки, зимой – рубаха, белые кальсоны с завязками и портянки байковые. Никакой заботы. Каждый день после ужина – личное время: волейбол, письма, пинг-понг. Каждое воскресенье – кино в клубе, кофе с плюшкой в солдатском кафе. Увольнение в город всякий раз оборачивалось приключением с любовной интригой, переодеванием и бегством от патруля. Порядки были жесткие, и оттого каждый час на воле ощущался как праздник жизни, он требовал супер-активности, душа просила “балдежа”... Гауптвахта у нас называлась – “губа”, нары – “вертолет” (там арестованные вертелись от холода), курить не давали, на работы водили без ремня под дулом карабина СКС-10 с примкнутым штыком. Было стыдно почему-то, что именно – без ремня. Ремень носили на я... В общем, к концу службы ремень опускали ниже пояса. Это был знак. Никакого практического назначения у ремня не было – только сакральное, причем, очень большое. Все командиры это знают: ремень подтянут – солдат исправен; ремень распущен – сачок; без ремня – вообще не солдат, выродок. Через двадцать лет в армии фактически упразднили солдатские ремни – вот армия и выродилась. Телевизор в казарме – особое развлечение. Стоял он в “ленкомнате”, смотрели его после ужина до отбоя (“деды” – и после). Передачи были дрянь, развлекались комментариями, преимущественно – матом. Юмор был настоящий, казарменный. У каждого “деда” была своя любимица из певиц или актрис, когда она появлялась на экране, кирзовая публика орала: “Где Серега? Сергей Иваныч – ваша!” – соответствующий “дедушка” мчался из курилки в шлепанцах или издалека поручал свою любимицу кому-нибудь – тот смаковал вслух ее достоинства. Коитус виртуале. “Дедовство” у нас в части было мирное. “Деды”, независимо от звания, первыми брали пищу и последними – лопату. Буквально: “Молодым везде у нас дорога, старикам всегда у нас почет”, – закон жизни, справедливый и незыблемый. Молодые “пахали” безропотно (“борзость” пресекалась) и ждали своего часа. Карусель армейской жизни крутится быстро, какой-то год – и молодой уже “постарел”: пересел ближе к кастрюле, перелег ближе к окну, вот он спит уже до самого развода, и “пайку” ему другие молодые прямо в постель несут. Самая потайная часть солдатской частной жизни – письма с родины. Это святое. Невеста, мать, родина – эти вещи только солдат знает, больше никто, и не спорьте. О них не говорили – ими жили, особенно – первый год службы. Говорили в казарме о бабах и о дембеле. Самые драгоценные письма читались в сортире, на очке, – была в том бравада, самозащита, потому что зависимость солдата от почты – гигантская, буквально жизненная: из-за плохого письма бывали в армии самоубийства. Девчонка не то слово напишет – парень к ней рванет, по дороге шестерых укокошит, и никакая прокуратура не сможет объяснить, почему военнослужащий оставил расположение части. Такие дела. А вы говорите – частная жизнь... 1975. ГОВОРИТ РАДИОСТАНЦИЯ “ЮНОСТЬ”! Чистым, ликующим голосом (ну прямо как сегодня в рекламе “Sprite”: “Не дай себе засохнуть!”) – сперва девушка, потом юноша звонко: “Говорит радиостанция “Юность”!”. И дальше все про Чили с тревогой, про пленного генсека Корвалана: “Эль пуэбло! Унидо!” – это мы солидарны, значит. Все едины, все непобедимы: Боярский, Фрейндлих, Вознесенский, Вуячич душу рвал “Над расстрелянной песней не плачь”, Градский целую пластинку записал – “Стадион”, Боровик – пьесу “Командировка в Буэнос-Айрес”. Сильно мы тогда Пиночета ненавидели, помните? А песни в те годы было принято объявлять по полной форме. Например: “Песня Туликова на стихи Пляцковского “Бамовский вальс”. Исполняет вокально-инструментальный ансамбль “Самоцветы”. Пусть плывет смолистый дым Сквозь густые ветки. Будет самым молодым Этот вальс навеки! Благообразие в эфире нарушали “радиохулиганы”. Для них был кайф – просто выматериться на всю страну. Хулиганы покультурнее – “шарманщики” – играли в диск-жокеев, в запрещенном диапазоне крутили музыку – “эмигрантов” и “битлов”. В Перми западные станции не прослушивались, за исключением мощных орудий идеологического фронта вроде “Голоса Америки”. Коммерческое вещание можно было услышать только прижав ухо к самому “железному занавесу”. Там, у них, шла музыка нон-стопом круглые сутки, выворачивались наизнанку ведущие, изощрялись операторы так, что, даже не зная языка, их можно было слушать часами. Тяжелый рок, поп, немного джаза и – диско, диско, диско – бесконечная “бамалама”. В Пермь, кстати, “Bamalama” пришла с неожиданной стороны – через обычный телевизор под новогоднее утро в телепередаче “Мелодии и ритмы зарубежной эстрады”. Полуголые ведьмы в адских сполохах света вертели над головой цепи и выли: “Уу-е!”. Такая была диверсия на ЦТ. Я был в восторге целый год. Ликбез в области музыкальных стилей проводил журнал “Ровесник”. Весьма корректно промывал наши мозги журнал “Америка” на русском языке, – ходил из рук в руки свободно, никто не изымал. Наши выпускали симметрично журнал “Советский Союз” – образцовая, кстати, была полиграфия, лучше американской. Читатель вздыхал, листая: “Могут ведь, если захотят”. Советский миф и реальность стремительно разбегались – “настоящий Советский Союз” находился уже где-то далеко, не в нашем городе. А у нас в Перми открыли институт культуры, тоже хорошо. Рядом с ним, в кинотеатре “Комсомолец” по понедельникам на последнем сеансе крутили т.н. “некассовые” фильмы. Скромно, без афиш, но попасть было невозможно, билеты – только с рук. “Пепел и алмаз”, помню, “Иваново детство”, “Зеркало”... “Зеркало”, о. Оно отгородило нас, умных и тонких, от “них” – глупых и толстых. “Они” смотрели “Есению” по четыре раза. “Они” смотрели “Любовь земную” с Матвеевым, они “Сладку ягоду рвали вместе...”. Ну, про ягоды и мы не забывали. Герой года – Олег Блохин, лучший футболист мира в 1975 году, – а никто и не сомневался. Чемпион мира по шахматам – Анатолий Карпов: “Шифер” вконец оборзел, и шахматную корону передали Толе, и правильно. Космические новости уже никого не волновали, но полет “Союз”-“Аполлон” по-хорошему взбодрил: у нас, у супер-держав, все о-кей. Правда, кушать было нечего в одной из них... 1975. Нет мяса. Колбаса соевая, кошки ее не едят – только люди. Молоко восстановленное, нормализованное (разбавленное) или вообще белковое, из-под него бутылки мыть не надо. Да что молоко – масло было с водой! – “бутербродным” называлось. “Книга о вкусной и здоровой пище” становится диссидентским чтивом: только так можно узнать, что на свете существует карбонат, сервелат, тамбовский окорок. Слагаются легенды о временах, когда икра лежала и никто не брал. Фетишизируется красная и белая рыба, мясные копчености, крабы и печень трески в банках. Армянский коньяк, конфеты с ликером, растворимый кофе – советские символы гастрономического разврата. Дефицит конфет. С темной начинкой – только в театральных буфетах. Символы благосостояния: большой холодильник и стиральная машина “Сибирь” с центрифугой – не надо крутить ручкой валики. Предел мечтаний: цветной телевизор – полированный кубометр с окошком. Довольствовались черно-белым. По телевизору в тот год шел 4-серийный фильм “Люди и манекены” с Райкиным: сцены в интерьере, монологи. Крылатая фраза оттуда: “Дифсит – вкус спицифитский”. Веселили народ Студент “калинарного техникума” (Хазанов), Вероника Маврикиевна (Вадим Тонков) и Авдотья Никитишна (Борис Владимиров). Все у нас смотрели фестиваль болгарской песни “Золотой Орфей”, там Гран-При дали песне “Арлекино”, ее новенькая певичка пела – ну как ее, ну у которой еще щель между передними зубами... Шедевр “производственной драмы” пьеса Гельмана “Протокол одного заседания” – про то, как бригадир от премии отказался. Любимая эксцентрическая телекомедия “Здравствуйте, я ваша тетя!” тоже вышла в 75-ом. Набрала популярность передача “Что, где, когда” – интеллектуальная викторина с совой и книжками в подарок победителям. В 1975 году впервые крутанули по телеку “Иронию судьбы, или С легким паром!” в новогоднюю ночь. И с тех пор – каждый год, как пластинку заело. Символ той нашей жизни: пластинку заело – по “Иронии судьбы”. 1976. ПОДПОЛЬНЫЙ КЛИП У Брежнева – юбилей, в декабре будет 70! Страна очумела от счастья, ликованье прибывало с каждым днем, мы все умрем от счастья в декабре! По телевизору показывали: простая женщина у себя на грядке вырастила розу и дала ей имя – “Борец за мир Леонид Ильич Брежнев” – розе! Салтыков-Щедрин встал из гроба, глянул на этот шизняк – плюнул и помер снова, отныне навсегда – кому он здесь нужен. Дак ить все нормальные люди в подполье жили, как их увидишь? Писали книги “в стол”, картины “в чулан”, фильмы снимали “для полки”. Я, кстати, тогда на кино запал – любительской камерой снял в 1976 году нечто невероятное под названием “Novy Horizont” – свои ассоциации на музыку польской джаз-рок-группы “SBB” (4 мин, ч/б, 8 мм), смонтированные как коллаж. Через пять лет этот жанр пришел на советское телевидение с Запада под названием – клип. Еще через десять лет стартовала клип-индустрия, и к концу века уже сложилось клип-мышление – люди и не заметили, как стали мыслить иначе... А тогда кино мое выглядело до крайности странным, ко мне домой стали приходить такие же странные люди, чтобы посмотреть. Мы были молодые и нескучные, сидели до утра – острили в клиповой манере, пили, пели. Строили безумные планы, с безумной надеждой принимались их воплощать... Кто-то воплотил и прославился, кто-то помер... В 76-ом еще все были живы. Новый комсомольский почин – возрождение агитбригад. Это была такая форма самодеятельности – театрализованная якобы сатира. На всех предприятиях новые “синеблузники” высмеивали местные недостатки: пьяниц, прогульщиков, несунов. Ерничали на тему загнивающих бедолаг-империалистов и блудных сыновей советской страны – диссидентов. Это называлось – политическая сатира, очень поощрялось сверху. В рамках смотров агитбригад пели “Белфаст” – песню протеста малоизвестной пока группы “Boney M”, этакая суровая отповедь экстремизму в стиле диско. То и дело врубали рок – потом вешали лапшу кураторам, что рок – негритянская народная музыка. Вообще, сплошь и рядом держали пальцы крестиком и протаскивали под шумок всякие “вредные” идеи. Студенты оттягивались на своих смотрах. Самые популярные концерты в ту пору были у филфака ПГУ: в переполненный зал не попасть, духоту взрывали бури аплодисментов. На “Студенческой весне-76” филологи разыгрались не в меру – устроили капустник из пьесы Горького “На дне”, наговорили двусмысленностей про нашу жизнь. Дух захватывало от намеков: Актер читал стихи про уточек, коих поднимает упадничество на эпической волне; Клещ дразнил жюри красной рубахой; а Настенка-проститутка звала всех на БАМ. Ребята просто пошутили, но органы рассвирепели всерьез – всем влетело по первое число, а педагогам – по сто тридцать первое. Один из них вместо степени доктора получил инфаркт. Закат живой музыки на танцплощадках. Гитарное десятилетие кончилось, началась эпоха дискотек. Помню первую дискотеку в ППИ: гремит музыка из магнитофона, мигает цветной фонарь, двадцать человек стоят в пустом зале и смотрят с недоумением на сцену – там пляшет ведущий, или как он велит себя называть – “диск-жокей”. Сбоку поднос с сушками. На экране – мультфильм про Парасольку. Задание публике: грызть сушки, смотреть мульт и танцевать – все одновременно. Впечатление ужасное. Ведущий остался публикой недоволен: дураки какие-то, в Москве давно уже дискотеки, а у нас всё какое-то болото... Но скоро, в считанные месяцы, и у нас завертелись дискотеки не хуже столичных. Живые гитаристы разбрелись по кабакам. Электрогитара из культового объекта превратилась просто в музыкальный инструмент. Случайные люди схлынули, а самые преданные “рыцари медиатора” стали сочинять свою музыку, строить свой гордый антимир. Поднялась волна советского рока – мощная не-музыка: истовая, искренняя, мусорная, злая. В жестком ритме хрипели придушенно: Пробирался я куда-то, Что-то локтем задевал, Чьи-то скорбные надежды Мимоходом разбивал. Подпольная запись, не знаю чья. Моя. Следующие 15 трагических и прекрасных лет советского рока вылились на турбину шоу-бизнеса, вся их энергия благополучно ушла в баксы... Мощная не-поэзия Высоцкого, тоже из подполья: Грязью чавкая, жирной да ржавою, Вязнут лошади по стремена. Но влечет меня сонной державою, Что раскисла, опухла от сна. Немытые стаканы, пивные лужи, рыбья чешуя на газетке. Скупые мужские сопли. Пришествие в Пермь Иисуса Христа – в качестве суперзвезды от Веббера и Райта. Наше атеистическое сознание было взволновано незнакомым образом Спасителя – во-первых, и незнакомой формой мюзикла – во-вторых. И вообще, в моду входила сложная сюжетная музыка: “Пинк Флойд” – “Обратная сторона Луны”; Эмерсон – “Картинки с выставки”; Вейкман – “Легенды и мифы короля Артура”; чуть позже: “Квин” – “Ночь в опере”. Бетховена протащили по шпалам диско, Баха. Пошла вширь психоделия “Дорз”, медитация Махавишну, стало модно “балдеть”, сидя на полу. Или лежа на диване, упаднически уставя очи в потолок. Вот откуда мой фильм – с потолка. С потолка нашего подполья. 1977. “ШАНХАЙ” НА КРОХаЛЕВКЕ К 60-летию Великого Октября по ЦТ прошел документальный телесериал “Наша биография”. Привет из советского далека: Мне не думать об этом нельзя, И не помнить об этом не вправе я – Это наша с тобою земля, Это наша с тобой биография. В 1977 году частную жизнь пермяков украсил великий эксперимент по продаже книг повышенного спроса в обмен на сданную макулатуру. Государство-монстр со свойственной ему неуклюжестью решило сыграть на увлечении своих граждан хорошими книжками. Принесешь 20 кг старых газет на приемный пункт – если приемщик на месте, получишь талон. С талоном подежуришь у магазина недельку – если не обманут, получишь книжку. Все просто. Особо ценились: Ильф и Петров, А.Толстой, А.Конан-Дойль, Войнич, Дюма, Коллинз, Андерсен. Недостижимая “Женщина в белом”, так и не прочту я Вас никогда, и не надо, пусть Вы останетесь загадкой... А их и не надо было читать, их надо было “доставать” – как дымчатые очки, как замшевый пиджак. В 1977 году в Перми начали возводить “башни” – жилые дома “московской серии”: 16 этажей, просторная кухня и прихожая, изолированные комнаты и санузлы, два лифта, пожарозащищенная лестница. Вошло в обиход новое слово – “лоджия”. В обычные крупнопанельные 5-этажки расселяют барачный поселок Крохалева – пермские трущобы. Их стоит помянуть: в них выросло целое поколение пермяков. Ряды полуразвалившихся, заросших грязью одноэтажных строений, все удобства – во дворе: на два барака один сортир о тридцати дырках – “мадамам” и “жентельменам” напополам. Это не при царе Горохе, это каких-то 24 года назад. Воду брали из колонок, носили ведрами издалека по дощатым тротуарам – летом и по обледенелым тропкам – зимой. Печурка была в каждой комнате своя. Дровяники во дворе рядами. Само собой – помойки, вонь, хлорка, мухи – миллионами, на чердаке блохи – туда пойдешь белье вешать, без ног вернешься – обгрызут. В комнатенках клопы, тараканы – кровати стоят ножками в баночках с керосином. Экзотика. Старожилы вспоминают бараки тепло: здесь жили по-особому. Дружно! Окна и двери не запирали. Крикнешь в коридор: “Девки, луку надо!” – сейчас кто-нибудь и принесет. До позднего вечера играли в карты, спали летом между бараками – на травке под кустами, семьями и поодиночке. Бегали за вином. “Вермут”, “Солнцедар”, “Волжское” – “чайка набок” на этикетке. Пьянка – каждый день. Драки за ссоры не считали. А рядом был “пьяный барак” – так там пили еще суровее, и все население без вычетов. Спьяну порубить шифоньер, грохнуть телевизор – обнакновенное дело. Но среди соседей были и усердные хозяева – отделывали комнатенку паркетом. Были воры. Воров уважали: “они где живут, не крадут”. К ним шли за защитой. В 70-х кончилась в бараках дружная жизнь. Повырастали детки, начали шариться у соседей, красть с окон, пакостить, задирать прохожих. “Сявки”, вооруженные “хеврами”, стали налетать на авторитетов. Не стало житья на Крохалях. Очень вовремя Крохаля расселили в 77-м. А Владимирский “шанхай” гнил еще года три. Двухэтажные бараки гниют до сих пор. Только называют их не бараки – “ветхое жилье”. Для новоселов пермская мебельная фабрика “Дружба” заваливала магазины книжными полками с раздвижными стеклами, “полумягкими” креслами на ножках, раскладными, нарочно для малогабаритных квартир, диванами: двуспальными – 180 руб. и полуторными – 157 руб. Шифоньеры двух- и трехстворчатые, с антресолями и без; в моде темная полировка. Молодожены охотились за столом-“книжкой” и лысьвенскими утюгами с регулятором и паром (10 руб.). По пригласительному билету в салоне для новобрачных вылавливали разный дефицит. Обручальные кольца в моде были – широкие. В день свадьбы полагалось объехать на такси городские памятники, возложить цветы и сфотографироваться у каждого. О венчании не было и мысли. Справляли: в пятницу в ресторане; в субботу – у ее родителей; в воскресенье – у его. Водку покупали только на первые тосты, после пили спирт и брагу из экономии – и крылья эту свадьбу вдаль несли... И заносили, конечно: гости блевали, падали. Как правило – дрались, тут же братались – а какая свадьба без буяна? Трезвые гости на свадьбе – позор хозяевам. Любой ценой гостей полагалось повалить. После свадьбы молодожены ехали в Болгарию, попроще которые – в Сочи. Там море... Но море – вечное, а мы о преходящем. Черты года такие. За авиабилеты могут убить. “Аэрофлот” в 77-м дешев, как пара кунгурских туфель, и так же невыносим. В кассах убийство – жара, давка, драки, предсмертные крики: “У меня бронь! Бронь!..” – и кассир-убийца, хладнокровно: “Нет у вас брони. Следующий”. Жванецкий еще не виден, но уже слышен. Всесоюзное радио подсказывало выход, ненавязчиво так: Мне к теплому морю нисколько не хочется – Душой не кривлю я, о том говоря. Тебя называю по имени-отчеству, Святая, как хлеб, деревенька моя. Спохватились. За двенадцать лет, как колхозникам стали выдавать паспорта, все, кто пошустрее, из деревень разбежались, а оставшиеся погрязли в пьянстве. Атеисты тартанулись: запричитали о святости, возвели каравай на алтарь: “Хлеб всему голова!”. В столовках развесили шедевры казенной словесности: “Хлеб – драгоценность, им не сори! Хлеба к обеду в меру бери!” – ломти стали резать пополам и еще раз пополам. При этом нефтедолларами, гады, даже не сорили – веяли их по ветру миллиардами. Опять я о политике, неизлечимый... Женская мода в ту пору была – макси: юбка-колокол, юбка-спираль. Сумки из бортовки с портретом Демиса Руссоса. Гуд бай, май лав, гуд бай! 1978. ВСЕМ БЫЛО “ПО ФИГ” Сосед дядя Гриша, ветеран Великой Отечественной, каждый вечер напивался перед телевизором и матюками комментировал программу “Время”, при этом он смачно харкал на экран. Время ветерану не нравилось и одноименная программа тоже. Там все врали и лизали зад Брежневу, дарили ему Звезды Героя, как барышне брошки – ко дню рождения. К 23 февраля 1978 года Брежневу подарили Орден Победы. “За что?! – вылетел на кухню ужаленный в самое нутро дядя Гриша. – Орден Победы положен ПОЛКОВОДЦАМ, а не полковникам!”. А Брежнев уже был Маршал Советского Союза и скоро будет Генералиссимусом – как Сталин. По всей стране ветераны плевали в экраны, ходил анекдот про “дворники” на телевизор. Просто выключить “ящик” никому из них не приходило в голову. Да и что толку, заодно надо было отказаться от радио, от всех газет и журналов, не ходить по улицам. Запереться и помереть, что ли? Брежневские льготы ветеранам немного приглушили брань бывших фронтовиков. Фронтовики тоже ведь были разные. Около любой очереди терлись пожилые ловкачи с ветеранскими книжками, они продавали свое место у кормушки. Хотя никакой нужды они не испытывали, пенсии в то время были большие и доставлялись исправно. Летом какой-то заморский гость подарил Брежневу орден “Золотое Солнце Перу”. “И золотое кольцо в нос”, – посмеивались мы несколько придушенно. Кругом был сплошной дефицит, дефицит всего, а нашему генсеку награды уже некуда было вешать. Один отважный клоун в цирке показал залу спину в орденах – зал взорвался хохотом. Чувствительность народа к иносказанию была потрясающей. Между награждениями шел телесериал “Следствие ведут ЗнаТоКи”. Часть публики почему-то фыркала от песенки “Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...”. Вероятно, она, эта часть, догадывалась об истинном уровне преступности в нашей стране. Большинство же населения находилось в счастливом неведении, в безмятежном спокойствии за свою безопасность. Так только, кое-где некоторые милиционеры допускали рукоприкладство... Слегка калечили задержанных, кто-то обирал пьяных – неизвестно кто... Порой сажали не тех... А в основном все было тихо, факт. Звукоизоляция была идеальной. И вдруг – Вознесенский по телеку: “Я – горло! Повешенной бабы, чье тело, как колокол, билось над площадью голой!..” – это он с Родионом Щедриным написал ораторию “Гойя”. Неужели – можно?.. У нас в Перми, в ДК Гагарина, при людях – и вдруг такая текстуха в затемненном зале: “Человек надел трусы...”. Что-о?! – Да нет, нет, это стихи того же Вознесенского, стихи на тему времени: “По утрам, надев трусы, не забудьте про часы”. Шутка гения. А на экране – диапозитивы известных пермских фотохудожников. Всё литовано. Фокус, однако, был в том, что шутливые стихи в соединении с безобидными диапозитивами да под “космическую” музыку поднимали тему ВРЕМЕНИ, именно – в абсолютных, не советских координатах. Тему, уже ставшую болезненной, хотя слово “застой” еще не прозвучало. Обстановка в затемненном зале была грозовая. Никто не хотел свергать советскую власть, она сама приставала. Человек вне политики не имел права быть. Или ты будешь общественник – или тебя не будет вообще. Ты обязан ходить на службу, платить разные взносы, посещать промывания мозгов, выписывать себе промыватели (газеты), обязан одобрять, обязан любить до гроба. Иначе задолбают, отовсюду выгонят, а потом посадят за тунеядство. И не выпустят, пока не перекуют. Звени, отваги колокол! В дороге все, кто молоды. Нам карта побед вручена. Понятие “частная жизнь” было вражеским. Личная жизнь подлежала контролю. Жены жаловались на мужей в парткомы, и парткомы обсуждали интимные подробности “поведения коммуниста в быту”, выносили постановления: “вернуть в семью”, par exemple. То же – в комсомоле, в пионерской организации. “После уроков будем тебя разбирать”. Разбирали. Всех тошнило, довоенные моральные нормы уже сто раз устарели, инструкторам приходилось покрикивать: “Поактивнее, товарищи!”. Всем уже было глубоко “по фиг”. На протесты, однако, не хватало духу, оставалось тихо саботировать мероприятия. Казус. На заводе Орджоникидзе работал простым инженером легальный богач по фамилии Бородянский. О размерах его состояния ходили легенды: будто он как-то раз всему заводу зарплату выплатил. С банком вышла заминка, обратились к Бородянскому – и тот выручил, одолжил – всему заводу хватило. Он не был бизнесменом, просто накопил, одной морковкой питался, одинокий. Безобидный чудак, к нему каждую неделю по понятной причине невесты сватались – так он их чаем напоит, до дому проводит – и все. На старости лет хотел дать деньги на постройку детсада – но с одним условием: чтобы был тот садик его именем назван. Власти долго колебались, но так и не решились. Тем временем Брежневу подарили Ленинскую премию в области литературы – за ту его трилогию, помните? Которую ему Чаковский написал. Штирлиц – Вячеслав Тихонов читал нам по ЦТ книжку Брежнева “Малая Земля”, как сказку малышам. Вот и еще один кумир вдребезги. Не было никакого Штирлица. Ауфвидерзейн. Не-ет, не “ауфвидерзейн”! Ты у нас ее тоже читать будешь! Герой! Мы тебя заставим “Малую Землю” сдавать на экзамене по философии! – А вот фиг вам. В билете два вопроса, выеду на втором, но читать не буду. Зрение пропало, куриная слепота от систематического недопития. Осенью Брежнева провезли через Пермь. Знакомая телефонистка рассказывала: на полдня остановили все поезда в округе, выгнали всех со станции “Пермь II” – пассажиров, служащих, вообще всех, кроме дежурного диспетчера, оцепили площадь и пути на километр. Не дай бог, советский народ к вождю приблизится. А народ и не пытался. “Заколебал” – словечко из 70-х, маскированный мат, произносится сквозь зубы. В 1978 году я крутил свой второй фильм – уже вполне попсовый клип – на дискотеке в Доме офицеров и в институте галургии. В отличие от первого, “интеллектуального”, его можно было крутить под любую музыку без остановки и даже задом наперед. Что мы и делали цинично, удаляясь тем временем в буфет и насасываясь там портвейном до побурения, пока в танцевальном зале шла вся эта катавасия. В моде была “АББА”, “Би Джиз” и “Бони М”: хей, хей, Распутин, рашен крейзи лав машин! 1979. ОТВЯЗ С ОТТЯГОМ Отдел заказов образца 1979 года – очень удобная вещь: кому общего ассортимента не хватает, иди в отдел заказов, прямо тут же в “Гастрономе”, и набирай: венгерский зеленый горошек, болгарские сухие вина, куры в упаковке, соки. Главное – не меньше 10 наименований. Кандидаты наук очень радовались, потому что денег им тогда платили много, а к спецраспределителю не подпускали. Жаль, скоро отделы заказов истощились и стали работать по спискам: ветеранским, многодетным и т.д. А вот ресторан в 1979 году был доступен даже инженеру – в смысле цен. Поэтому вечером попасть – “Мест нет”, естественно, или “Ресторан на обслуживании”. Столик заказывали за неделю. Ну, или стояли в очереди у входа, а куда деваться? Казалось: жизнь – там, за спиной швейцара... А там был отвяз уже безо всяких церемоний, отвяз и съём. Ресторан как культурное заведение, куда наряжались, как в театр, канул в прошлое. Были попытки поднять престиж. В “Каме” открыли программу варьете – настоящий буржуйский кордебалет в плюмажах! В “Элладе” оборудовали элитную дискотеку – билеты через райком комсомола! Во всех ресторанах ввели обязательную культурную программу перед выпивкой. Мужчин без галстуков не пускали. Но все это было уже впустую. Народ терпеливо ждал, когда кончится концертное отделение и начнут подавать водку. Первого официанта с графинчиком встречали урчанием, лица светлели. Через пять минут начинался обычный бардак. Бардак правил бал, чесал всех под одну гребенку: входили в ресторан разнообразные человеки – выпадывали одинаково растрепанные скоты. Ловили “тачки”, ехали совокупляться, таков был порядок – следовало “продолжать”. Панорамируя рестораны и танцплощадки второй половины ХХ века, видим: дело шло к отвязу давно, регламент поведения убывал плавно. Танец рок-н-ролл, при всей его экстравагантности, был еще как-то регламентирован, это был парный танец. Отвяз пришел с твистом в начале 60-х. Твист можно стало танцевать в одиночку и в толпе, поперла импровизуха. Шейк танцевали уже кто во что горазд. После шейка, с 70-х и доныне, наступил пластический беспредел, не имеющий названия, условно – “быстрый танец”, отвяз с оттягом. После шейка никакие конкретные танцы не приживались. Налицо медленное разрушение ритуала, разложение сознания язычников. Мы же язычники, “козе понятно” (эта самая “коза”, кстати, через 10 лет родит “козла” – постсоветский тотем). Глядим с завистью на стариков, танцующих кадриль под баян, – они сохранили свою общину, им тепло вместе. Нам туда, к ним, не попасть: у нас другое сознание – никакое. Кстати, танцуют они в Черняевском лесу; характерное место языческих камланий – лес. Храни их Господь. В 1979 году повысили цены в ресторанах в вечернее время – на треть. Курили: сигареты “Стюардесса”, “Родопи”, “ТУ”, “Опал”, “Интер” – это “хорошие”, с фильтром, 35 коп. “Дымок”, “Астру” (“Астму”), “Приму” – “чтоб продирало”, 14 коп. “Беломор” – папиросы для настоящих мужиков! Для престижу – болгарские в твердой пачке “ВТ”. Зубы чистили – болгарскими опять же пастами “Mary” и “Pomorin”. Латинские буквы на тюбиках льстили обывателю, он уже не верил лозунгу “Советское – значит, отличное!”. Советский “Знак качества” дураки и жулики лепили куда попало. Пили: водку “Русскую”, 4-12. “Боровинку” (не помню почем). Шампанское было разных сортов – от “брют” до “сладкого”, все 4-67. Новинка: водки “Сибирская” и “Пшеничная” – с винтовой крышкой вместо “бескозырки”, – теперь допивать бутылку стало не обязательно, но что-то я не помню, чтобы этим удобством кто-то пользовался. “Старка” еще была. Бренди “Сълнчев бряг”. Ром как-то завезли в Пермь – “Гавана Клаб”. Пиво, блин, пильзенское в алюминиевых бочках. Хорошее пиво, быстро выпили. С ромом вперемешку. На слуху слово “пивбар”: “Жигули” – в Балатово и “Подкамник” – в подвале ресторана “Кама”. Поначалу там культурно было. Подавали копченые ребрышки, пиво в кувшинах почти не разбавленное. Мебель в “Подкамнике” была ужасно неудобная, вылезть из-за стола – проблема, после трех кувшинов – вообще нерешаемая. Голубого официанта в “Жигулях” помню, язычок всем показывал, балерун. В 1979 году моду вошли “дипломаты” – дюралевые “мыльницы”, облитые черной “шагренью”. Дубленки стали самой престижной верхней одеждой: 600–1000 руб., если достанешь. У “масс” своя мода – зимняя куртка “аляска” с болоньевым верхом, мужские туфли на высоком скошенном каблуке, у девушек – духи “Быть может”. За Пикулем гонялись. За пленками с Высоцким. Высоцкий был последним национальным героем. Фронтовики, зеки, алкаши, менты, спортсмены, жлобы, романтики, диссиденты и партийные бонзы – всех охватил Высоцкий свой харизмой и повел “по-над пропастью”. Никому с тех пор так не верили так, как ему. Даже Кашпировскому. Тот же Высоцкий был замечен мной в потрясающей пропартийной халтуре. В радиоспектакле “Сухэ-Батор” он сотрясал воздух бездарными лозунгами главной роли. И не сгорел со стыда, ничего. И я, услышав, не расстроился. Привык уже. Все так жили тогда – в двух измерениях, и я так жил. Это было нисколько не обременительно, даже придавало будням пикантность – до поры 1980. ДИКОВАТЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКРЫТОГО ГОРОДА В 1980 году ко мне в гости приехал эстонец Юло Мустамяэ. Я водил его по разным компаниям и наслаждался эффектом – мужики, услыхав иностранное имя и акцент, терялись и разговаривали с моим эстонцем, как с глухим; девчонки таяли и вообще лишались речи. Обожали иностранцев. За их отсутствием обожали пермских немцев – но только если у них были “шмотки” и акцент, обрусевшие немцы в пиджаках от “Пермодежды” никого не интересовали. Однако, и те, которые с акцентом, и те, которые без, при первой возможности уезжали на родину предков подальше от советского обожания. Уезжали семьями, оставляя друзей и плоды трудов своих, уезжали навсегда. В 80-м пермских немцев отпускали неохотно, а встречали в ФРГ радушно. В 93-м все стало наоборот. Вообще, любой западный акцент имел над нами магическую власть. Ну кто бы стал слушать певца Тыниса Мяги, не будь у него западного акцента? Сэгоднья никуда от спорта не уйти, От спорта нэт спасэ-эния! Это где-то там, в Москве, был большой праздник с иностранцами – Олимпиада-80. Вся страна ее обслуживала, голодная, разутая страна. Обслужила, а потом села к телевизорам и посмотрела на свое величие, и утешилась. Отдельные злопыхатели рассказывали анекдоты про Мишку Талисмана, который на воздушных шариках в Израиль улетел. Больная точка в нашем мозгу: Израиль. Истерия в прессе по поводу выезда евреев из Советского Союза подняла муть со дна, с близкого донышка обывательского сознания: Родина-мать их вскормила-де, вспоила, а они кинули ее, обокрали, смылись, не расплатившись за образование, и т.д. – предатели, короче, старая песня на новый, советский, лад. Погромов не было, но вот в троллейбусе к еврею приставал подвыпивший мужик, сам видел. Глупо приставал, бесцельно, бредил тупой ненавистью вообще. И все молчали, попутчики. Мнили себя великим народом. Дряхлого косноязыного правителя считали обидным недоразумением, какой-то необъяснимой досадной случайностью. Объяснение: “Каждый народ заслуживает своего правителя” – нас не устраивало. Мы, по нашему представлению, заслуживали лучшего. По пьянке способны были признать свою избыточную терпеливость, ну ладно – малодушие, – но только не кретинизм. Дойти до сути никак не получалось – участники дискуссии к утру отрубались и падали прямо тут же на кухонный пол. Нам до зарезу нужно было “зеркало” – чтобы увидеть себя со стороны. А “зеркала” не было, вокруг была тухлая, прокуренная вата. Был “Сталкер”: две серии бурьяна, мусора и страха – сеансами в “Комсомольце”. Хороший фильм, кстати, три раза смотрел. “Только этого – мало”... В 80-м умер Джо Дассен, мсье Комфорт, – шансонье с необычайно уютным голосом и огромной популярностью в Советском Союзе. “Ты слышал – Высоцкий умер!” – Что?! – шок. Это была уже ощутимая потеря. Потеря воздуха, будто остановилась вентиляция: значит, скоро и мы сдохнем. А эти паразиты ему Государственную премию присудили – посмертно. Смешно, Высоцкий был “наш”, никак не “государственный”. А вот интересно, отказался бы он от госпремии, будь он жив? Застрелили Джона Леннона. Мой знакомый хиппи заплакал: “Ну, это уже вилы”. Из отдушин одна Пугачева осталась. Анекдот-80: в ХХI веке выпустили словарь – там на букву “Б”: Бред... Бредень... Брежнев – политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Бешеная популярность была у Пугачевой. Потому что сама она была... Ну скажем так – независимая женщина среди рабов. В этом все дело, вокал-то у нее – довольно средний. Но – независимая! Она первая заявила о своей личной жизни как о высшей ценности. И первая дала по носу ее блюстителям: не ваше дело. А как стану я немилой – Удалюсь я прочь, И, скатившись по перилам, Упаду я в ночь. Неслыханная дерзость. Рабы, кстати, очень быстро выучились дерзить. Как слабину хозяина почуяли – давай дерзить, носы друг другу квасить. А сегодня новая дерзость нужна – другого человека за ценность признать. В 1980 году пермский клуб самодеятельной песни провел свой первый фестиваль – во ВКИУ. С тех пор КСП вот уже двадцать лет подряд проводит фестивали, – нашли деньги или не нашли – в лесу у костра всё равно споют про “солнышко лесное”. В 1980 году вышел на экраны первый отчественный боевик а’ля Гонконг “Пираты ХХ века”. В Пермь прилетел исполнитель главной роли Еременко-младший собственной персоной, выступал перед зрителями в кинотеатре “Россия” в грязных резиновых сапогах и с выражением крайнего высокомерия на красивом лице. В фильме впервые показывали карате. Карате, короче, – это типа бокса, только бить надо ребром ладони или ногой. Недавно рассекретили древнее искусство. Тысячи юношей крутили в воздухе ладошками и ломали себе кисти на кирпичах. Отменялась мышечная сила, – это устраивало девушек, они тоже крутили и пинались, зачастую превосходя юношей агрессивностью. Кстати, о девушках, – анекдот в тему. Американский турист соблазнил комсомолку. На прощанье дает ей доллар – та не берет. Сидит, плачет. Он ей – 10 долларов, она не берет. Плачет, не уходит. Американец забеспокоился: “Ну может, купить тебе чего-нибудь? Обувь? Еду?” – “Ничего не надо, мистер, – говорит девушка. – Только уберите, пожалуйста, ваши “Першинги” из Восточной Европы”. 1981. КАК МЫ ЧОКАЛИСЬ Открываю глаза – все те же лица. И еще какой-то человек поет под гитару: “Я уплываю, и время несет меня с края на край...”. Ты сказала, что человек этот верит в переселение душ и что нам с ним надо идти за пивом. Я пошел, заинтригованный обоими обстоятельствами. Про “переселение душ” я в тот день так ничего и не узнал. И пиво мы не купили – его нигде не было. НИГДЕ. Прихожу на работу – там везде рыба разбросана. Тюлька пряного посола, судя по запаху. Крошки черствые на столе, фильтры обкуренные, магнитофонная пленка по полу серпантином – ага, это мы вчера “Чингисхана” отплясывали. Начинаешь вспоминать. В другой раз, тоже с бодуна, прихожу на работу, глядь в окно – под окном труп лежит. Ну, думаю, – мой. Протер шары – девчонка. Голая. И менты в траве шарятся. И, что обидно, ничего вспомнить не можешь. Слава богу, обошлось. Пошли с другом “лечиться” – пива не нашли, пришлось водку купить. И все по новой. Стихи скандировали: “Хорошо быть молодым!..” Влезали в окна к любимым женщинам. И просто к женщинам. И просто в окна, а также на телефонные будки и квасные бочки, изображая памятники самим себе. На церковный двор через забор проникали – службу посмотреть. Во лузях, вздымая кубки, декламировали Пушкина: “Пора! Пора! рога трубят; псари в охотничьих уборах чем свет уж на конях сидят...”. И горланили, перемежая тостами, песни Дольского, Визбора и нашей Ларисы Пермяковой – в тоске неизбывной: Бреду, бродяжка, как в бреду, Как будто книгу на ходу Знакомую читаю. Девушки красились самодельной тушью. Крошили в железную баночку черный карандаш “Живопись”, строгали туда же мыло и плавили все это на газе при помешивании смеси и рассудка. Когда жижа застывала, резали ее на дольки и укладывали в “фирменную” коробочку – на ресницы наносили обычным порядком. Ресницы делались черные-черные, длинные-длинные, – и все это для нас... А мы, подлецы, принципиально не желали ничего доставать – ни косметику нормальную, ни сапоги румынские, ни электрические самовары – последний писк. В 1981 году в моде были полотняные платья – “сафари”. Форсированный вариант – платья “милитари”: погончики, нашивки, шевроны. Ансамбль дополняла модная прическа – хвост над ухом. Деловые мужчины в 1981 году носили дутую золотую печатку на жирном волосатом пальце и мужскую сумочку, называемую почему-то – “визитка”. Мы их не любили, деловых. Кстати, ОБХСС – тоже. Зато они были хорошими отцами (не то что мы), и именно им, как выяснилось, светило будущее. Своих детей они называли по моде – Дима, Денис, Маша, Оксана. Из моды незаметно выпали Миши и Бори, почти не стало маленьких Люд. Одни только большие Люды сидели с нами на кухнях и слушали наши стихи – кодированные исповеди. Курили кишиневское “Мальборо” – до полуночи, а после – “кизяк” и что закатилось под холодильник с прошлого раза. Слали гонца за винцом, он возвращался не один – проплывали какие-то воры, журналисты, балерины, хирурги, окулисты-гинекологи, десантники и просто забияки – хоровод собутыльников. Эстафета диванов, кушеток, козеток, соф, раскладушек и просто матрасиков на полу. Дух бродяжий, ты всё еле-еле. Как мы чокались? Часто. Фигурно: “камушками”, “по-водолазному”, под речевки типа: “Не желаем жить – ЭХ! – по-другому!”. Или под выдох скорби: “Ну, давай”. Пили стоя, сидя, лежа, с кулака, с локтя, с мостика, перекатом “по орденам”, с переворотом и подскоком. Пили спирт гидролизный (“галошу”) неразведенный – почему-то. Почему было не развести? – непонятно. Сами были неразведеные потому что. Ну, то есть, действительность не устраивала – улетали таким образом, от спирта ведь разгон знаешь какой – как будто под зад пнул слон. Да и как иначе, если стакан по-турецки – “бардак”... Стоп, дальше ни слова, секса при советской власти, будем считать, не было. А была всякий раз литература: романтическое грехопадение с последующими терзаниями себя и жертвы. Ну, ты в курсе. Кодировать свои исповеди – единственное, что мы хотели и умели делать хорошо. Все остальное не имело смысла, а особенно – “служение обществу”. Просто “общества” уже не было – были пальцы крестиком у вождей и фиги в кармане у “масс”. А нам это зачем? Мы уже летали (во сне и наяву – помнишь?), видели какое-то сияние на горизонте – Бог его знает, что там было, может – Истина? Ходили на работу, прикидывались полезными и скромными, смывались оттуда пораньше и расслаблялись на конспиративных квартирах. Самая экзотическая из них была, конечно, на улице Матросова – избушка на курьих ножках, полная чертей и гениев. Один из чертей на четвертые сутки белогвардейского кутежа кинул-таки в хозяйку круглый тяжеленный стол и сломал ей ногу. Говорят, это был я. Ну конечно, “я”, условно-конкретный персонаж этой драматичнейшей из хроник. Смерть моя, я знаю, будет страшна. Худой и немощный, я буду лежать на раскаленной постели, глядеть с тоской на облака и молить о минуте покоя – а стадо чертей будет с хохотом бить в барабаны, орать под гитару “Колыбельную” Гершвина и читать мне последние известия через мегафон прямо в ухо. Люди! Все, кому я докучал в 1981 году своими ночными оргиями и кухонными бреднями о благоустройстве Советского Союза, – если вы живы, – простите меня. Я больше не буду. Избушку на Матросова уже снесли, место продезинфицировали и застроили. Но доску мемориальную мы все равно там приколотим. Памятный знак установим в виде багрового кукиша на все четыре стороны. ...На прощанье ты подарила мне деревянного истуканчика с улыбкой олигофрена – подставку для карандашей. У него в голове было двенадцать дырок. Вот мой образ той эпохи: двенадцать дырок в голове и улыбка олигофрена. Кто не помер, тот выжил. Вместо дарственной надписи ты начертала одно слово у истукана на пятке: “Забудешь?” – Забыл.
|
| ← предыдущая страница 1 2 3 4 5 следующая страница → |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля