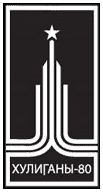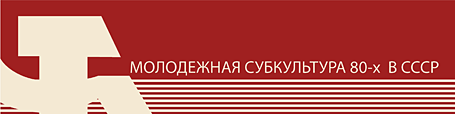

Хиппи в конце пути
|
Слово «хиппи», родившееся на наших глазах каких-нибудь пять-шесть лет назад, прочно вошло во все европейские языки и даже успело занять место в последних изданиях энциклопедий. Тем не менее осмыслить это явление в полном объеме не просто. Одни считают, что хиппи — это стиль, своего рода «пощечина общественному вкусу», и, если долгогривого хиппи постричь, помыть и приодеть, он станет обычным добропорядочным гражданином буржуазного общества. Другие настаивают, что хиппи — это мироощущение, отрицательная реакция на все ценности, превозносимые западной идеологией. Третьи убеждены, что хиппи — прямые преемники ранних христиан и, сами того не сознавая, совершают «пассивную революцию» в морали и сознании молодежи. Хиппи возглашали: «Лучше заниматься любовью, чем войной», и это сближало их с противниками войны в Индокитае, но они же проповедовали: «Лучше влезть в грязь, чем в политику», и тем самым отмежевывались от демократических движений в своих странах. Хиппи просили: «Сохраните цветы на Земле», то есть ратовали за здорового человека, обитающего в здоровой среде, но они же утверждали: «Наркотики — рай на Земле», то есть сознательно разрушали свой разум и тело. Одно, по крайней мере, очевидно: хиппи культивировали религиозное сознание. Это не значит, что они становились ревностными прихожанами официальных церквей. Маркс более ста лет назад писал о религии как о самосознании и самочувствовании человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял. Сказанное в полной мере относится к хиппи. Некоторое время назад среди части молодых людей в Соединенных Штатах и Западной Европе стихийным образом возникло поветрие — на Восток! Йоги были провозглашены «тысячелетними хиппи». Зашифрованная мудрость восточных религий показалась потерянным и не обретшим себя юношам и девушкам тем «настоящим», чего они не видели в окружавшей их действительности. Они не заметили классовых битв, они находили «скучными» рабочие стачки и антивоенные демонстрации... На Восток! Это было бегство как в прямом, так и в переносном смысле. Восток казался им из европейского далека краем седобородых мудрецов, факиров и отшельников — представление, почерпнутое из детских книг и романтических грез. Но колониальные сказки, как оказалось, ничуть не походили на реальность. В развивающихся странах, озабоченных подъемом жизненного уровня населения, проводящих социальные реформы, ликвидирующих неграмотность, не могло найтись места для этих американцев и европейцев, провозгласивших своим принципом отказ от всякой деятельности. Да и как иначе! В Непале хиппи протаптывали тропинки к буддийским монастырям, в то время как правительство мобилизовывало свою молодежь на строительство дорог, школ и больниц. В Индии хиппи искали погруженных в нирвану созерцателей, а видели людей, преисполненных воли и надежд. Лишние на Западе, лишние на Востоке — таков печальный итог хиппи. Французская журналистка Сюзан Лабен, видевшая зарождение движения хиппи в Америке в 1967 году и написавшая об этом книгу «Карнавал в Сан-Франциско», теперь рассказывает в своем очерке о финале «детей-цветов». На берегах далекой Индии они растают, как дым их трубок. Пока они только теряют пряди своих длинных волос, их набрякшие веки еще не покрылись сетью морщин, но глаза уже успела выцвести, а щеки приобрести землистый оттенок. Их зубы, давно забывшие о пасте, угрожающе шатаются, когда они раскрывают рты в подобии улыбок. Им двадцать лет... Они курят гашиш, передавая по кругу трубки для затяжек, но многие уже прошли этот этап и теперь потребляют другие зелья, лишающие рассудка, делающие человека жалким рабом, развалиной. В груди у них поселился сухой кашель туберкулезных больных. Злоупотребление гашишем вызывает хронический бронхит, а в сочетании с недоеданием он превращается в грозную болезнь. Между тем они живут в краю, где солнце, искоренитель микробов, светит двенадцать месяцев в году. Но они редко выходят на солнце, а сказочный Каленгутский пляж не для них. Это для туристов. Я наблюдала хиппи в их «колыбели» — в Сан-Франциско, и в памяти сохранились яркие воспоминания о живописных одеждах, зазывных криках — ярмарочный спектакль с танцорами, которые выбрасывали в истерическом ритме руки и ноги под гитарные громы и молнии. Я помнила беглецов в грязных шортах, покинувших свои чистенькие пригороды, чтобы смешаться с брызжущей энергией толпой сверстников. Это было время всепрощенческого карнавала, поп-фестивалей, непоказного миролюбия, когда юноши с античными бородами и девушки в гирляндах совали цветы в дула наставленных на них винтовок национальных гвардейцев. Во всем этом было отрицание сухого материализма нашего, западного, уклада жизни, но также и жажда жизни — подлинной жизни, как им казалось, радость от сознания, что их много, тысячи, что можно послать к чертям учебу, работу, правила и мораль. Это в 1967-м. Сейчас, пять лет спустя, я нахожусь за 20 тысяч километров от Калифорнии, в конце пути, пройденного хиппи, во всяком случае, самыми последовательными из них, принявшими тогдашний карнавал всерьез. Ибо большинство, познавши горечь слишком затянувшегося праздника, вернулось домой, в семью, в общество, либо уже лежит, захороненное на крохотном кладбище где-нибудь в окрестностях Катманду или кремировано на погребальном костре дежурным брамином по пути к гашишному раю. Я нахожусь в Гоа, бывшей португальской колонии в Индии. Здесь нет никакого карнавала. На бесконечном пляже там и сям можно видеть европейцев в окружении веселых стаек детишек-индийцев. Но это туристы. «А где же хиппи?» — спрашиваю я. Мне показывают на лес, темнеющий в отдалении. Не такое легкое дело — добраться до здешних краев: надо пересечь океан, всю Европу, Турцию, Иран, Пакистан и треть Индии, в Дели пересесть на местную линию до Бомбея, а из Бомбея на совсем уже крохотном самолётике — до Гоа. Но это еще не конец. На трех автобусах с пересадками нужно добраться к Каленгутскому пляжу. Я описываю эти перипетии не для того, чтобы вызвать сочувствие к туристам. Просто это поможет оценить нечеловеческую усталость хиппи, которые проделали тот же самый путь, но не в самолетах (денег хватает только на первый этап — до Европы), а пешком, редко — на попутных машинах, если водитель окажется сердобольным. В сезон дождей путь усложняется во сто крат. Самые удачливые тратят на дорогу месяцы; другие — годы. Ночуют на голой земле, завернувшись в пластиковую пленку, или в храмах, питаются подаянием. Это означает, что до Гоа добираются только «самые-самые», те, кто решил дойти невозвратным путем до Высшей Истины... Каленгутский пляж забыт вниманием сервиса. Здесь нет ни отеля, ни ресторана. Власти штата, осуществляя программу социального развития, построили столовую для неимущих. Это, пожалуй, главное спасение для хиппи. С помощью смышленого малыша, знающего несколько английских слов, я добираюсь наконец до хижин, давших кров «семьям» хиппи, покинувших шумные города ради целительного покоя. «Семьи» сплошь и рядом — понятие чисто условное. Под пальмовыми крышами зачастую живут четверо-пятеро человек. Так дешевле. Хижины они снимают у прибрежных рыбаков за 4 доллара в месяц — получается по доллару с головы. Внутри темно. Два топчана, сколоченных из досок. Ни стола, ни стула, ни привычных для хиппи афиш, не слышно и музыки. Транзисторы и проигрыватели проданы по дороге, да и редко кто из хиппи способен сейчас выносить пронзительные аккорды, без которых они не мыслили себе жизнь в Сан-Франциско, Париже, Амстердаме. Они даже не дают себе труд выказать случайной посетительнице «ленивую симпатию курильщиков гашиша», о которой писал Бодлер. Здесь они совсем не так общительны, как в Сан-Франциско, не стараются эпатировать или вовлечь в свой круг единомышленников. Здесь они погружены только в себя, стали нелюдимыми и серьезными, до жути серьезными... Дорогой они продали часы — к чему время человеку, проводящему большую часть времени в дурмане? И куда торопиться, если его никто нигде не ждет? В Бомбее на базаре они продали кольца и побрякушки, купленные в Стамбуле, когда еще оставалось немного монет, продали куртку из овечьей шерсти, приобретенную в Кабуле, продали пластинки, гитары и туфли. До Гоа они добираются с единственными сокровищами: трубкой и длинными волосами. ...Я вхожу в давно не метенную хижину. У стены, держа на коленях кошку, сидит существо среднего пола в японском кимоно. Четыре испуганных глаза смотрят на меня. Человек говорит столь тихо и невнятно, что приходится то и дело просить его повторить. А говорит он, жеманничая и краснея, следующее: его котик... привык к дыму гашиша... Не найдется ли у меня денег для кота... и для него... Покорно выслушав отказ, он продолжает. Верю ли я в переселение душ? А он верит и желал бы в будущем перевоплотиться в сиамского кота... Где его соседи? Они ежеутренне отправляются промышлять еду, а он остается охранять дом... Вскоре появились остальные обитатели хижины: датчанин в шафрановой тоге, голландец в длинной рубахе, рыжеволосый и рыжебородый американец, голый по пояс, с телом, густо покрытым порнотатуировкой. Они здесь недавно и еще не успели потерять живости. Их еще интересует еда, а не только гашиш. Американец бодро заговорил о преимуществах философии хиппи: антиматериализм, антиконформизм, естественное развитие личности. «Если мир против нас, то и мы против мира...» Иду к другой хижине. Ее занимает пара французов, парень и девушка. Что их привело сюда? Тоска по натуральной жизни, вдали от мясорубки индустриального мира с его тщеславной суетой, освобождение от груза принудительного труда. Только так человеку открывается Истина. Мы, рабы обыденности, обречены слепо тянуть свою лямку, подобно запряженным в соху быкам, не ведая зачем, не смея помыслить о бунте. Мы — марионетки фарса, носящего громкое имя «индустриального общества». Какой контраст между жизнью парижанина, томящегося по три часа утром и вечером в давке метро, и этим райским уголком, где нога утопает в ласковом песке... Я слушала его и смотрела на неподвижное лицо подруги, отмеченное печатью недавней красоты. В течение всего разговора она смотрела на нас остановившимся взором. — Недавно из больницы, провела там четыре месяца, — сказал ее спутник, — дизентерия... Насколько тяжкой должна была быть болезнь, если девушку оставили на такой срок в больнице, где не хватает мест умирающим... В утешение я говорю: — Ну здесь солнце, пляж, живительный океанский воздух... — Пляж! — прерывает парень. — До него целый час ходьбы! — Но можно ведь не каждый день... — Я не могу ходить, — тихо говорит девушка. — Ноги не держат. Такова судьба этой симпатичной пары, отправившейся за тридевять земель в поисках живительного нектара свободы от общества и прозябающей сейчас в темной хижине, откуда они выходят только в больницу... На следующее утро я принесла им таблетки и коробку витаминов. Принимая подарки, девушка признательно улыбнулась мне. Она хотела жить. Ей и ее спутнику по двадцать три года.
...В следующей хижине, где накопившиеся за год отбросы оставили не так уж много места для житья, обитал американец с женой-француженкой, их дочь девяти лет и шведка эксцентричной (даже для хиппи) наружности. Сейчас она отсутствовала. — Вы принимаете наркотики? — Конечно. А почему нет? — И дочка тоже? Вопрос повисает без ответа. — В какую школу ходит ваша девочка? Мать с упреком поворачивается к супругу: — Вот видишь... — Зачем ей школа? — возмущается глава семьи. — Чтобы вынести оттуда искаженное представление о жизни! Я не желаю, чтобы общество забивало мозги моего ребенка своими бреднями! — Но ведь она должна, по крайней мере, уметь читать и писать... Мать повторяет жалобным тоном: — Вот видишь, я тебе говорила... Но он опять взрывается: — Что, она станет счастливой оттого, что выучит азбуку и таблицу умножения? Здесь она развивается естественным путем, слушая голоса природы, считая деревья, цветы, бабочек, ракушки. Она это делает по-своему и только так сможет развить личность. Она свободна как птичка. Он резко поворачивается к дочери, которая засунула тем временем в рот курительную трубку: — Положи на место! Сколько раз тебе можно повторять! Иди поиграй! Только не смей ходить одна на пляж! Это далеко, и ты заблудишься. Целая лавина запретов. И это для ребенка, живущего «свободно как птичка»... — Чем занят ваш день? — спрашиваю я главу семьи. — Мой день? Ничем. — Но так не бывает. Вы ведь что-то делаете... — Ну да, я ем, пью, сплю, курю гашиш... — А чем занят ваш ум? Вы читаете? — Ни в коем случае! Ответ не удивил меня. Я знаю, что люди, впавшие в такое состояние, не способны сконцентрировать внимание даже на крохотном тексте. Они еще могут разглагольствовать, но читать — уже нет. Хиппи читает, будучи новобранцем, но, когда человек отправился в путь по Великой Дороге Истины, то есть пристрастился к наркотикам, он больше не видит строк. — Любите музыку? Играете? — О нет! И так голова гудит... Мы пришли сюда за тишиной, спокойствием, миром... За миром, — повторил он. В разговор вновь вступает мать: — Вы считаете, что девочку нужно учить читать? — Зачем ты обращаешься к этой даме? — прервал муж. — Что она может об этом знать! Зачем учить ребенка читать, если мы презираем это общество с его лженаукой и фальшивыми новостями!.. Мы только-только успели забыть всю ту гнусность, которой нас пичкали в школе и университете. Пусть уж дочь будет избавлена от этой пытки... — Мы ведь сами выбрали этот путь, — возразила жена. — Но девочка, когда вырастет, возможно, предпочтет другое. Он испепелил ее взглядом. — Хорошо, вы не читаете, не слушаете музыку, — продолжала я. — Но у вас много досуга. Вы посещаете храмы, купаетесь, играете в карты, собираетесь вместе?
Они захохотали, как от хорошей шутки. — Плавать мы не умеем и вряд ли отличим даму от валета. Наш храм — лес вокруг хижины, а путешествуем, не сходя с места, — для этого есть ЛСД. Нам никто не нужен. — Что же вы делаете в таком случае? — Живем. Мы не хотим ничего делать, мы хотим просто быть. Вы вот считаете, что заняты делом, но мы не можем назвать это жизнью. — Деликатный вопрос: откуда вы берете деньги? — М-м-м... выкручиваемся. Неожиданно в амбразуре двери показывается шведка. Ей лет двадцать. Выяснилось, что они сдают ей часть хижины, но берут за месяц больше, чем сами платят за год. У юной блондинки еще сохранились кое-какие украшения, довольно пухлые щеки и победный вид. Она явно недавно покинула родительский кров, причем папочка и мамочка отпустили ей круглую сумму на дорогу. На эти деньги и живут ее случайные друзья, взамен научив ее доставать наркотики. Когда деньги кончатся, а щеки впадут, она, в свою очередь, станет щипать новоприбывших. Таков закон этой среды. Кроме того, старые хиппи, несомненно, подторговывают наркотиками, спекулируют гашишем, сбывая его «братьям по вере»...
Француженка вышла проводить меня и тихо зашептала: — Он считает, что ему открылась Истина, и презирает всех, кто не разделяет его взглядов. Поначалу и я так смотрела на вещи, но теперь вот... не знаю... Мне очень бы хотелось, чтобы девочка училась грамоте. Вы могли бы прислать мне из Парижа букварь? Спасибо. Но не сюда, ни в коем случае! Я напишу вам другой адрес... Иду назад по направлению к морю. Невдалеке на земле сидел старик индиец, орудующий каким-то инструментом. Его полуголое мускулистое тело, без грамма жира блестит на солнце. Тело тридцатилетнего мужчины и морщинистое лицо семидесятилетнего старика. Какой контраст с только что увиденными молодыми хиппи! У тех лица подростков и немощные старческие тела. Гашиш и опиум убивают постепенно все ощущения, в том числе голод и боль. Боль — ведь это сигнал тревоги, говорящий, что с организмом что-то неладно. Они же живут, как в вате, принимая наркотики вместо пищи, избегая малейшего усилия, проводя ночи без сна. Что может быть противоестественней такого образа жизни? Быстр финал столь долгого поиска Истины. Возможно, он наступит через месяц, через год. Чаще всего родные не получат об этом весточки: хиппи порвали с обществом, а в это понятие включено не только государство, но и семья...
Сюзан Лабен, французская журналистка
Перевел с французского Б. Тишинский |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля