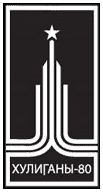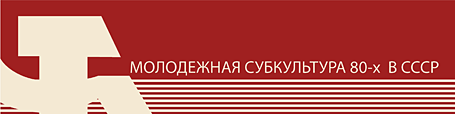

Группа с тату.Open Space.
|
Предыстория: Принц Константин и великий князь Михаил Александрович Когда немалый интерес к татуировке в Европе был вызван корсаром
Дампьером, а вслед за ним и капитаном Куком, которые завезли в Англию
татуированных островитян из южных морей. После чего культура татуировки
хлынула в Европу через показы сильно зататуированных европейцев в цирках
и на ярмарках-буф, сопровождаемые историями и небылицами о колониальных
злоключениях. Уже в 1870 году татуированные люди привлекали внимание не
только площадных зевак, но и медицинских и научных организаций, что
обеспечило героям цирковых шоу славу и популярность. Одним из самых
ярких таких персонажей был албанец по имени Александринос, известный как
Константин, затем уже как Капитан Константин, а в Америке его
героический статус возрос до Принца Константина. К его прогрессирующей
славе, как и вообще к популярности этих фрик-шоу, приложил руку
создатель знаменитого американского цирка Финеас Тейлор Барнум, члены семейства которого были татуированы. Увлечением индивидуальной татуировкой европейская аристократия во многом
обязана Японии, где татуировка издревле существовала в криминальных и
профессиональных сообществах — среди бандитов и пожарных. В XIX веке
прежде закрытая восточная империя встала на путь вестернизации. Многие
представители европейской и американской знати в то время успели
посетить иокогамского мастера Хори Чио, которого нью-йоркские газеты
называли не иначе как Шекспиром татуировки. Это помутнение коснулось и
наших коронованных особ: великий князь Михаил Александрович, брат
Николая II, инкогнито сделал себе татуировку — по некоторым сведениям,
дракона. Несмотря на то что его предки — Петр I и Екатерина Великая —
заложили в России иную традицию персонального маркирования, переняв у
китайцев практику метить преступников клеймами и особыми стрижками. В
конце XIX века татуировка была достаточно популярна среди российских
буржуа — в Санкт-Петербурге официально работали татуировочные студии, и в
энциклопедии Брокгауза и Ефрона татуировка фигурировала как увлечение
буржуазного класса. К тому же российская история помнит экстравагантного
графа-бретера Федора Толстого по прозвищу Американец, который во время
кругосветной экспедиции Крузенштерна (1803—1806) сделал себе на груди
татуировку, потом был списан с борта за хулиганские выходки и был
вынужден по суше добираться от Камчатки до Петербурга.
Несмотря на табу, в обществе татуировка проявлялась сама собой — в армии
и на флоте. В советской и американской армии с татуировкой боролись,
причем самыми жесткими методами — вплоть до моментального сведения
любыми подручными средствами, чуть ли не наждачной бумагой. Но эта
культура была неискоренима, особенно в военные годы. Самые дерзкие,
буйные и оголтелые воины с древнейших времен себе делали татуировки —
чтобы распознавать ранги друг друга, из куража или на память о пережитых
историях, которых было предостаточно. |
Виктор Гюго
Гербатон
Сугробы - "Всё хорошее будет вчера"
ностальгия по неформальному
Презентация фотоальбома и концерт 18 июля